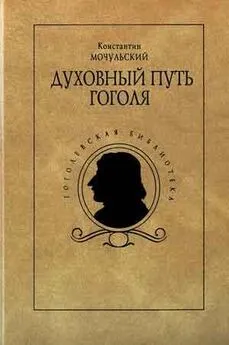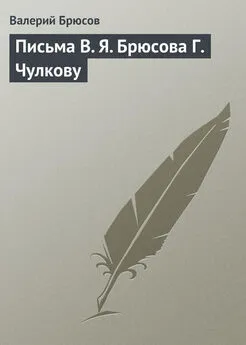Константин Мочульский - Валерий Брюсов
- Название:Валерий Брюсов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Мочульский - Валерий Брюсов краткое содержание
Валерий Брюсов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Романтическую философию искусства (Шеллинг, Тик, Новалис) Брюсов сводит, упрощая, к двум положениям: эготизму и артистизму.
Развоплощение мира и обожествление поэта-мага Брюсов выражает в поэме «Сон пророческий». Это— одно из лучших произведений сборника. Поэту снится шабаш ведьм; одна из них предсказывает ему:
Ты будешь петь! Придут к твоим стихам
И юноши и девы, и прославят,
И идол твой торжественно поставят
На высоте. Ты будешь верить сам,
Что яркий луч зажег ты над туманом…
Но будет все — лишь тенью, лишь
обманом.
Стихи, помещенные в отделе «Ненужная любовь», кажутся неожиданными в этой книге бесстрастных и отвлеченных размышлений. Торжественный и церемонный маг способен на простые человеческие чувства; ему удаются иногда прелестные лирические строфы.
Сквозь туман таинственный
Голос слышу вновь,
Голос твой единственный,
Юная любовь!
Или:
Миг заветный придет…
Сердце странно сожмется,
И она промелькнет,
И она улыбнется…
Книга «Me eum esse» — важный этап в развитии русского символизма. Брюсов утвердил личность художника-демиурга, величие его творческой воли. На почве этого эстетического индивидуализма выросло символическое искусство. Абстрактную схему Брюсова Белый, В. Иванов и Блок заполнят впоследствии конкретно-мистическим содержанием.
Для автора «Me eum esse» его книга была концом пути. Личность самоутверждалась в пустоте, над пропастью небытия, — дальше идти было некуда. Брюсов понимал: ему нужно было или перестать писать, или переродиться. Он замечает в дневнике: «Писать? Писать не трудно. Я бы мог много романов и драм написать в полгода. Но надо, но необходимо, чтобы было, что писать. Поэт должен переродиться, он должен на перепутье встретить ангела, который рассек бы ему грудь мечом и вложил бы вместо сердца пылающий огнем уголь».
И он верит, что это перерождение произойдет: в человеческой душе откроются «неведомые тайны духа» и тогда расцветет новая «неслыханная» поэзия. Этими пророческими предчувствиями вдохновлена статья-реферат 1897 года «К истории символизма». В истории человеческой культуры, рядом с большим общепризнанным искусством всегда существовало другое тайное течение. «Его можно, проследить от таинственных хоров Эсхила, через произведения средневековых мистиков, через пророческие книги Вильяма Блэка, до непонятных стихов Эдгара По и нашего Тютчева. Эта поэзия стремилась передать тайны души, проникнуть в глубины духа…» И Брюсов утверждает: «В наши дни мы присутствуем при новом пробуждении души… Какие-то вершины там и сям озаряются неожиданным мерцанием, совершенно непохожим на прежний свет. Поэзия, видимо, переходит в совершенно новую фазу существования… Создать новый поэтический язык, заново разработать средства поэзии — таково назначение символизма… Ближайшее будущее может дать образец неслыханной поэзии, поэзии, воплощающей неведомые человеческие тайны духа…» В этих словах — ясновидение: Брюсов предсказывает возрождение русской поэзии, создание нового поэтического языка, мистическую природу символической лирики.
Летом 1897 года Брюсов в первый раз едет за границу. Он путешествует по Германии и ограничивает свой маршрут посещением немногих городов: Берлин, Кельн, Ахен и Бонн. В Берлине его очаровывают картины Боттичелли. «Кельн и Ахен, — пишет он, — ослепили меня яркой золоченой пышностью своих средневековых храмов. Впервые „сквозь магический кристалл“ предстали мне образы „Огненного Ангела“». Той же осенью он отправляется в Малороссию, посещает гоголевские места — Миргород, Сорочинцы. Васнецовские фрески в Владимирском соборе в Киеве кажутся ему «подлинной красотой».
ГЛАВА ВТОРАЯ. (1897–1902)
В 1897 году в дом Брюсова поступила гувернанткой скромная, молчаливая и незаметная девушка, Иоанна Матвеевна Рунт. Поэт долго ее не замечал, но она окружила его таким вниманием, так героически защищала его рукописи от налетов наводившей порядок няни Секлетиньи, что в один прекрасный день он вдруг ее увидел. 28 сентября того же года они скромно, почти тайно повенчались. «Жена Брюсова, — пишет З. Гиппиус, — маленькая женщина, полька, необыкновенно-обыкновенная… Ведь это единственная женщина, которую во всю жизнь Брюсов любил». Единственный раз пишет он в дневнике о любви и нежности без притворства и «литературы». — 2 октября 1897 года. «Я давно искал этой близости с другой душой, этого всепоглощающего слияния двух существ. Я именно создан для бесконечной любви, для бесконечной нежности. Я вступил в свой родной мир. Я должен был узнать блаженство».
Иоанна Матвеевна была первой и последней любовью поэта; у него была бурная эротическая жизнь, драмы, увлечения, связи, но, несмотря на все измены, — ей одной он оставался верен.
3 апреля 1898 года Брюсов отмечает в дневнике: «Переехали на Цветной бульвар. Живу „в своей семье“ снова». Мэтр декадентства пребывает в патриархальном купеческом мире, изображенном Островским. З. Гиппиус вспоминает: «В то время Брюсов жил на Цветном бульваре, в „собственном доме“. То есть в доме своего отца, в отведенной ему маленькой квартире… В калитку стучат кольцом, потом пробираются по двору, по тропинке меж сугробами; деревянная темная лесенка с обмерзшими, скользкими ступенями. Внутри— маленькие комнатки, жарко натопленные, но с полу дует». В кафелях печей отражались листы больших латаний, стоявших в горшках. Критика истратила много остроумия, чтобы отгадать «символический» смысл брюсовского знаменитого стихотворения:
Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмалевой стене.
Для Ходасевича— это просто «реальное описание домашней обстановки». [3] Вл. Ходасевич. Некрополь. Bruxelles, 1939.
Брюсов встречал гостей в обществе своей жены, Иоанны Матвеевны, и сестры жены, Брониславы Матвеевны. Он был гостеприимным хозяином, но, ехидно прибавляет Ходасевич, «металлическая спичечница, лежавшая на столе, была привязана на веревочке». Поэт поражал странным сочетанием декадентской эстетики с московским мещанством: скромный, с короткими усиками, с бобриком на голове, в пиджаке обычнейшего покроя и в бумажном воротничке, он читал стихи порывисто, с коротким дыханием, высоким голосом, переходящим в поющие вскрики.
Интервал:
Закладка: