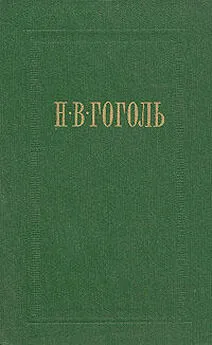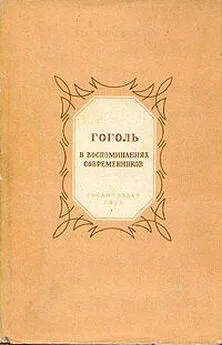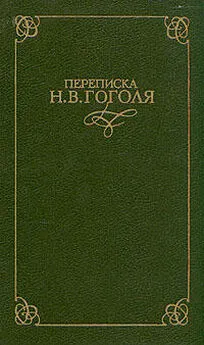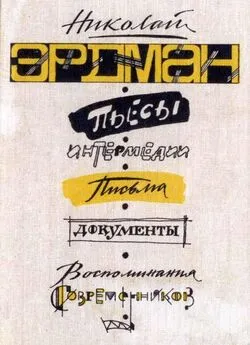Николай Гоголь - Воспоминания современников о Н. В. Гоголе
- Название:Воспоминания современников о Н. В. Гоголе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Гоголь - Воспоминания современников о Н. В. Гоголе краткое содержание
Воспоминания современников о Н. В. Гоголе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Надо сказать, что прения по поводу Франции и ее судеб раздавались во всех углах Европы — тогда, да и гораздо позднее, вплоть до 1848 года. Вероятно, они происходили в то же время и там, далеко, в нашем отечестве, потому что с этих пор симпатии к земле Вольтера и Паскаля становятся очевидными у нас, пробивают кору немецкого культурного наслоения и выходят на свет. Но и при этом следует заметить, что русская интеллигенция полюбила не современную, действительную Францию, а какую-то другую — Францию прошлого, с примесью будущего, то есть идеальную, воображаемую фантастическую Францию, о чем говорю далее.
…Еще до возвращения моего на родину, именно в 1842 году, Белинский, вскоре после своего памфлета «Педант», о котором я уже упоминал, нанес еще и другой, тяжелый удар одной весьма почтенной личности московского круга — ныне покойному К. С. Аксакову. Известно, что К. С. Аксаков, при появлении первой части «Мертвых душ», в том же 1842 году написал статью, в которой проводил мысль о сходстве Гоголя по акту творчества и силе создания с Гомером и Шекспиром, находя, что только у одних этих писателей, да у нашего автора обнаруживается дар указывать в пошлых характерах и в самом пороке еще некоторую внутреннюю крепость и своего рода силу, которые почерпаются ими уже от принадлежности к мощной и здоровой национальности. К. С. Аксаков, приравнивая Гоголя к Гомеру по акту творчества, позабыл при том упомянуть о множестве гениальных европейских писателей, отличавшихся тоже необычайными творческими способностями, которые, таким образом, как будто ставились все ниже Гоголя, а вдобавок — еще прямо объявлял, что в деле романа, понятого как продолжение древнегреческого эпоса, — уже ни одно современное европейское имя не может быть поставлено рядом с именем Гоголя ни в каком случае. Ничто не могло возмутить Белинского более этих афоризмов. Тот самый Белинский, который первый провозгласил Гоголя гениальным художником, объявлял теперь и печатно, и устно, что гениальность Гоголя, как создателя типов и характеров, хотя и не может быть опровергаема, но имеет все-таки значение относительное. По содержанию и внутреннему смыслу задач, разрешаемых русским автором, она ограничена умственным и нравственным положением страны, и дело, им производимое, не может итти ни в какое сравнение с вопросами и темами европейского искусства, с целями, какие оно себе задавало и задает теперь в лице лучших своих представителей; что затем никакой предполагаемой крепости и силы народного духа в выводимых Гоголем на сцену лицах не обретается, ни о каком таком значении их, вероятно, автор и не думал, а если и думал, то ребячески ошибался. Вдобавок Белинский прибавлял, что Гоголь не только не выше всех европейских романистов, но, превосходя многих из них даром непосредственного творчества, наблюдения и поэтического чувства, уступает в объеме и значении основных идей некоторым, даже и не очень крупным явлениям европейской литературы. Все эти заметки наносили достаточно сильный удар новому, предпринятому толкованию Гоголя, но Белинский присоединил еще к этому несколько саркастических выводов из положений своего противника и заключал спор насмешкой. Последним ударом — coup de grâce — этой полемики со стороны Белинского было его заявление, что если судить по некоторым лирическим местам первой части «Мертвых душ», в которых обещаются изумительные откровения относительно внутренней и внешней красоты русской жизни, то Гоголь может, пожалуй, утерять и значение великого русского художника. С тех пор имя Белинского пронеслось «яко зло» в лагере славянофилов, и даже сделалось у них как бы олицетворением наносной, ни с чем не связанной, чуждой народу петербургской цивилизации, между тем как сами они отписали за собой Москву, как город, где особенно живет и развивается чуткое понимание русского народного духа со всеми его чаяниями и представлениями.
…Как ни важны были, однако же, все эти вопросы, и к какой яркой полемике ни давали они повод, все же они не могли, заслонить ни на минуту перед Белинским чисто русского вопроса, который тогда целиком сосредоточивался у него на одном имени Гоголя и на его романе «Мертвые души». Роман этот открывал критике единственную арену, на которой она могла заниматься анализом общественных и бытовых явлений, и Белинский держался за Гоголя и роман его цепко, как за нежданную помощь. Он как бы считал своим жизненным призванием поставить содержание «Мертвых душ» вне возможности предполагать, что в нем таится что-либо другое, кроме художественной, психически и этнографически верной картины современного положения русского общества. Все силы своего критического ума напрягал он для того, чтоб отстранить и уничтожить попытки к допущению каких-либо других, смягчающих выводов из знаменитого романа, кроме тех суровых, строго обличающих, какие прямо из него вытекают. После всех своих отступлений в область европейских литератур, в область славянства и проч., он возвращался с этого поля более или менее удачных битв опять к своему постоянному, домашнему делу, только освеженный предшествующими кампаниями. Домашнее дело это заключалось преимущественно в том, чтоб выбить из литературной арены навсегда, если можно, как диких, коварных и своекорыстных ругателей гоголевской поэмы, так и восторженных ее доброжелателей, прозревающих в ней не то, что она действительно дает. Он не уставал указывать правильные отношения к ней и устно и печатно, приглашая при всяком случае и слушателей и читателей своих подумать, но подумать искренно и серьезно о вопросе — почему являются на Руси типы такого безобразия, какие выведены в поэме; почему могут совершаться на Руси такие невероятные события, какие в ней рассказаны; почему могут существовать на Руси, не приводя никого в ужас, такие речи, мнения, взгляды, какие переданы в ней.
Белинский думал, что добросовестный ответ на вопрос может сделаться для человека, добывшего его, программой деятельности на остальную жизнь и особенно положить прочную основу для его образа мыслей и для правильного суждения о себе и других.
К этому же времени относится и появление в русской изящной литературе так называемой «натуральной школы», которая созрела под влиянием Гоголя, объясняемого тем способом, каким объяснял его Белинский. Можно сказать, что настоящим отцом ее был — последний. Школа эта ничего другого не имела в виду, как указание тех подробностей современного и культурного быта, которые не могли еще быть указаны и разобраны никаким другим способом, ни политическим, ни научным расследованием. Кстати заметить: прозвище «натуральной» дано ей было корифеем риторического, бесталантного, фальшиво-благонамеренного изложения русской жизни, Булгариным, но из вражды к Белинскому прозвищу обрадовались, и прозвище усвоили даже и люди, глубоко презиравшие литературную и критическую деятельность Булгарина. Оно и до сих пор держится у нас, несмотря на свое происхождение и на свою бессмыслицу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: