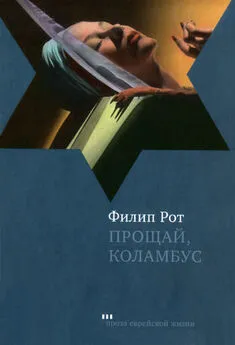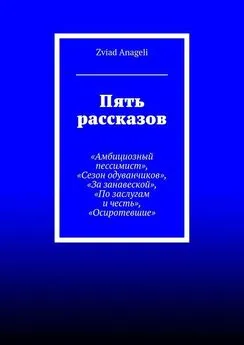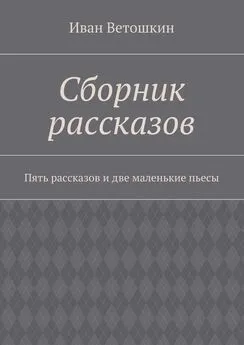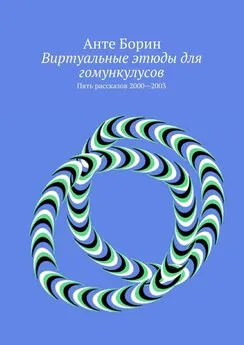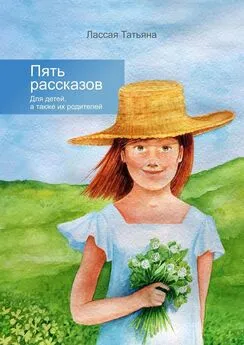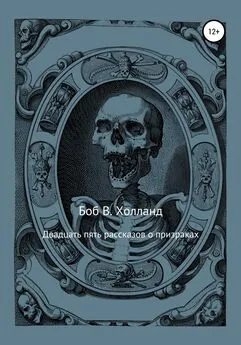А Альтшуллер - Пять рассказов о знаменитых актерах (Дуэты, сотворчество, содружество)
- Название:Пять рассказов о знаменитых актерах (Дуэты, сотворчество, содружество)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А Альтшуллер - Пять рассказов о знаменитых актерах (Дуэты, сотворчество, содружество) краткое содержание
Дуэты, сотворчество, содружество
В.А. Каратыгин и А.Е. Мартынов
М.Г. Савина и Н.Ф. Сазонов
В.Н. Давыдов и его современники — русские писатели
В.Ф. Комиссаржевская и Н.Н. Ходотов
Ю.М. Юрьев и В.Э. Мейерхольд
Пять рассказов о знаменитых актерах (Дуэты, сотворчество, содружество) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ю. М. Юрьев говорил, что в голосе Ходотова "всегда была слеза". Герой вполне благополучного артиста Ходотова печалился над своей судьбой. Но печаль не была органична для артиста и плохо сочеталась с его частыми "я счастлив", "я на седьмом небе".
Ходотов вспоминал, что Комиссаржевская советовала ему "не злоупотреблять тремоло в голосе и не усугублять жалость к себе внешней, входившей тогда в моду неврастенической игрой", а также "избегать театральных нажимов в сильных местах, пользоваться меньше трафаретными приемами, не распускать свои нервы" [39]. Это очень важное свидетельство, касающееся самой сути ходотовского искусства.
В театроведческой литературе утвердилось мнение о том, что амплуа актера-неврастеника вошло в моду на рубеже XIX–XX века, то есть в то самое время, о котором мы говорим. И называют имя знаменитого П. Н. Орленева, которому молодой Ходотов стремился подражать. Возникновение амплуа неврастеника связывают часто с выступлением на сцене Суворинского театра Орленева в роли царя Федора в трагедии А. К. Толстого "Царь Федор Иоаннович". Было это в 1898 году. "В театральном смысле роль Федора и, в частности, исполнение ее Орленевым положили начало, можно сказать, новому амплуа — неврастеника. До тех пор такого амплуа не значилось", — писал А. Р. Кугель [40]. Орленев — "основоположник так называемого амплуа «неврастеников»… До Орленева такого амплуа не существовало", — повторял за ним Ю. М. Юрьев [41].
Думается, это не совсем так. И вот почему. Действительно, самые крупные роли Орленева, в которых явственно звучали «неврастенические» мотивы, созданы на рубеже веков, всего за несколько лет — царь Федор, Раскольников, Дмитрий Карамазов, Освальд. В его таланте отозвались черты его неуравновешенной натуры, хрупкой психики, нервного, дисгармонического характера, готового в любую минуту взорваться или погрузиться в апатию. Но творчество Орленева и исполненные им роли на рубеже веков знаменовали собой не «начало» амплуа неврастеника, а вершину, если под этим амплуа понимать представление об определенном жизненном типе.
Образ неврастеника имел общественные предпосылки в 1880-е годы и был связан с идеями В. М. Гаршина и С. Я. Надсона, отразивших характерные черты эпохи. Новые тенденции в актерском творчестве проявились в таланте нервном, беспокойном, экспрессивном. Короче говоря, амплуа неврастеника, возникшее еще в 1880-е годы, получило в творчестве Орленева свое высшее выражение. По пути воплощения неврастеника как исторического и социально-психологического типа дальше Орленева никто не пошел. "А Михаил Чехов?" — слышу я каверзный вопрос. Отвечу: "Гении не вписываются в рубрики".
В начале нашего века амплуа неврастеника приобрело во многом благодаря Орленеву такой успех, что драматурги стали писать пьесы специально в расчете на подобных героев, многие актеры торопились прикоснуться к этому амплуа, видя тут залог верных удач. Антрепренеры гонялись за актерами модного направления, предлагая "первому неврастенику" неслыханный гонорар и, как острил В. М. Дорошевич, беря в придачу в труппу его жену-истеричку. Очень скоро все это превратилось в эксплуатацию некогда содержательного явления. Холодноватый Р. Б. Аполлонский использовал, по выражению Ю. Д. Беляева, "маску неврастеника", и Ходотов, с молодых лет игравший орленевские роли, актер в общем-то уравновешенный, нередко выдавал себя за неврастеника, нагнетая чисто внешние нервно-взвинченные приемы игры. С особой силой это проявилось в одной из любимых орленевских ролей Освальде, где Ходотов доходил до крайнего натурализма, изображая с клиническими подробностями распад сознания больного человека. Призывая Ходотова отказаться от "модной неврастенической игры", Комиссаржевская прозорливо оберегала его от внешних штампов и дешевого успеха.
Требования Комиссаржевской — личные и художественные — тяжелый груз для Ходотова. Его вполне устраивал обычный ход вещей, благо у него все складывалось как нельзя лучше. Сейчас надо было смотреть на себя ее глазами, видеть свои несовершенства и промахи, поступать так, как она велит. Он иногда даже не понимал сути ее требований, но сила ее убежденности была такова, что он готов был подчиниться и выполнять все, на чем бы она ни настаивала: "Если Вы скажете: это надо, я не буду говорить, думать"; "буду таким, как Вы хотите", — обещает он. Но, как точно заметила Ю. П. Рыбакова, "постоянная необходимость ходить на цыпочках, ощущение собственной недостойности создавали ему крайне неустойчивое положение" [42]. Выдержать требования великой актрисы и непостижимой женщины, которая призывала его к постоянному восхождению на "горные вершины духа", он не смог.
После ухода с Александрийской сцены и последовавшего затем разрыва с Ходотовым Комиссаржевская вступила в свой последний этап исканий, оказавшийся в ее биографии очень важным и очень недолгим. Созданный ею Драматический театр в «Пассаже», восторженно принятый революционно настроенной интеллигенцией, сотрудничество с В. Э. Мейерхольдом в попытках создать символический театр, затем снова гастроли — в Америке и по России, идея открыть Театральную школу и нелепая смерть от оспы в Ташкенте в 1910 году.
В этой ее новой жизни Ходотов уже не занимал, по существу, никакого места. Они иногда, как было сказано, выступали вместе, встречались на гастролях, но все это вошло в рамки обычного партнерства. Ее окружали другие люди, и волновалась она по поводу других встреч. Но когда надо было принимать решения относительно серьезных общественных поступков, Ходотов и Комиссаржевская действовали солидарно. Знаменитая записка "Нужды русского театра", опубликованная 12 февраля 1905 года в газете «Слово», в которой выражен протест демократически настроенных деятелей сцены против административного, цензурного и экономического гнета русского театра, составлялась на квартире Ходотова. Комиссаржевская присутствовала на этом собрании, вносила свои предложения. Ходотов до конца своих дней не мог расстаться с ее образом и ее влиянием. Он следил за ее деятельностью в «Пассаже», и его сочувствие революционно-демократическому движению эпохи первой русской революции во многом питалось ее идеями и ее практической работой. Пример Комиссаржевской сказался в призывах Ходотова отменить спектакли Александрийского театра в разгар стачечного движения, в его концертной деятельности, которая сблизила его со студенческими и рабочими организациями.
Следуя опыту Комиссаржевской, Ходотов создал в 1907 году Современный театр специально для постановки пьес «знаньевцев». Театр просуществовал один год, но здесь шли пьесы «Варвары» М. Горького, «Клоун» А. Куприна, "Бог мести" Ш. Аша.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: