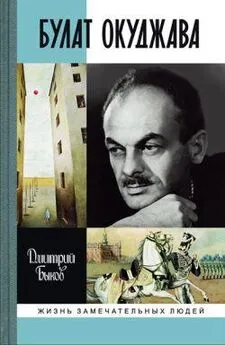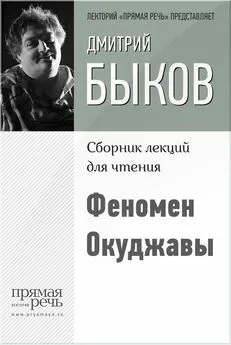Дмитрий Быков - Булат Окуджава
- Название:Булат Окуджава
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03197-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Булат Окуджава краткое содержание
Имя Булата Окуджавы (1924–1997) для нескольких поколений читателей и слушателей стало синонимом понятий «интеллигентность», «благородство», «достоинство». Кажущаяся простота его стихов и песен давала возможность каждому применить их к себе, пропитать личными биографическими обстоятельствами, в то время как в биографии самого Окуджавы в полной мере отразился российский ХХ век – арест родителей, война, бурная популярность времен оттепели, официальное полупризнание и трагические разочарования последних лет. Интерес к жизни и творчеству Окуджавы остается огромным, но его первое полное жизнеописание выходит в свет впервые. Его автор, известный писатель и публицист Дмитрий Быков, рассматривает личность своего героя на широком фоне отечественной литературы и общественной жизни, видя в нем воплощение феномена русской интеллигенции со всеми ее сильными и слабыми сторонами, достижениями и ошибками. Книга основана на устных и письменных воспоминаниях самого Булата Шалвовича, его близких и друзей, включает в себя обстоятельный анализ многих его произведений, дополнена редкими фотографиями.
Булат Окуджава - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Велик соблазн истолковать «Прощание с новогодней елкой» как стихи памяти Ахматовой – помимо прямой цитаты, здесь есть и строчка «Ель моя, ель, уходящий олень». Окуджава мог не знать, что «Оленем» называл Ахматову в любовной переписке Николай Пунин и сама она так подписывалась в посланиях к нему, но знаменитой строки из ахматовского посвящения Лозинскому (1912) не знать не мог:
И снова голосом серебряным олень
В зверинце говорит о северном сиянье.
Эти стихи Цветаева – в записной книжке 1917 года – называла в числе любимых: «О творчестве Ахматовой. – „Всё о себе, всё о любви!“. Да, о себе, о любви – и еще – изумительно – о серебряном голосе оленя.» Вообще многое в «Прощании» указывает на то, что перед нами реквием: «И в суете тебя сняли с креста», «Женщины той осторожная тень в хвое твоей затерялась», «Ель моя, ель, словно Спас на крови, твой силуэт отдаленный». Ахматовская тема, ахматовские влияния и заимствования в жизни и творчестве Окуджавы – отдельная большая тема; «поэтика умолчаний», строгая сдержанность формы, таинственность – в сочетании с пристальностью, фабульностью, традицией русского психологического романа – привлекали его в лирике Ахматовой, хотя в числе любимых поэтов он называл ее редко. Личное общение оказалось кратким и скупым: «А с Анной Андреевной уже мы познакомились тогда, когда я уже в какой-то степени стал известен и она меня пригласила к себе. Но так как для меня она была живым богом, я никак не мог решиться к ней поехать – я боялся. (Заметим, что такое отношение к Ахматовой было чрезвычайно распространено – и никак не связано с оценкой ее стихов или с их влиянием: таков был сам ее королевственный статус в ленинградской – и вообще русской – поэтической ситуации шестидесятых. Нонна Слепакова писала об этом: „Нет, уж лучше не пойти на прием не к человеку, а к серебряному веку от восьми до десяти“. – Д. Б.) Я боялся год, боялся второй год. Она меня приглашала, приглашала, и наконец я поехал. Я приехал к ней в Комарово. Но. у меня было такое состояние, как будто меня ударили по голове. Я помню, что она вошла, села, очень милая, очень располагающая, стала со мной говорить – о чем, я не помню: я был в полуобморочном состоянии. Я глупо улыбался, кивал ей. Мы сидели довольно долго там, у нее. Потом я уехал. А потом однажды – в Ленинграде я находился – я должен был быть на вокзале. И вдруг мне позвонил ее друг и секретарь (Анатолий Найман. – Д. Б.) и сказал, что «Анна Андреевна очень просит тебя приехать». Я сказал: «Нет, я не могу – я сейчас уезжаю! Я вот вернусь – и сразу к ней заеду!» Тут она взяла трубку и говорит: «Я прошу вас приехать». Я тогда не понимал, что говорю с царицей – понимаете? – не понимал. Я говорю: «Анна Андреевна! Вы знаете, такие обстоятельства, я должен.» – и засуетился, какую-то чепуху понес. И она взяла и повесила трубку. Я потом уже понял, что я должен был выкинуть этот билет и поехать к ней» (из ответов на записки 21 апреля 1985 года).
На самом деле Окуджава поступил здесь вполне по-ахматовски: «невстреча» – слово и понятие из ее лирики, и таких невстреч в ее биографии было множество: всего два разговора с Цветаевой, и те в 1940 году, всего два разговора наедине с Исайей Берлином. Эта манера внезапно вешать трубку среди разговора отмечалась многими мемуаристами – Ахматова могла оборвать разговор не потому, что сильно обиделась на Окуджаву, но потому, что не видела смысла длить общение. Все сказано. В такой невстрече куда больше поэзии, чем в готовности мчаться к ней по первому зову. Ахматова умела ценить в людях не только преданность, но и обязательность. Должен ехать – значит, должен: судьба.
Однако думается, что адресация песни шире: Окуджава, часто и охотно посвящая стихи живым, сравнительно редко откликался на чью-либо смерть. Превосходная эпитафия Борису Балтеру, стихи памяти Обуховой, Льва Гинзбурга, двоюродного брата Гиви, давних друзей Алеся Адамовича и Бориса Чичибабина – вот и всё: ничтожный процент на фоне добрых трех сотен прижизненных посвящений. Прощание с новогодней елкой шире личного обращения – это прощание с эпохой вообще, эпохой роковой, таинственной и праздничной, как само Рождество.
Пастернак устами Живаго называл Блока «явлением Рождества»; Ахматова в «Поэме без героя» описывала танец ряженых вокруг елки:
С детства ряженых я боялась,
Мне всегда почему-то казалось,
Что какая-то лишняя тень
Среди них «без лица и названья»
Затесалась…
Откроем собранье
В новогодний торжественный день!
Эти новогодние мотивы легко различить и в упоминавшемся пастернаковском «Вальсе с чертовщиной». Новый год – обещание будущего, грозного и прекрасного; предчувствием этого будущего – то радостным, ждущим и приемлющим, то страшным, отвергающим, – была пронизана вся поэзия Серебряного века. Блок ждал гибели радостно, Ахматова – смиренно, Пастернак провидел за ней возрождение; этот детский страх и восторг ярче и лаконичней всего дан у восемнадцатилетнего Мандельштама:
Сусальным золотом горят
В лесах рождественские елки.
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.
О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь.
Новый год – граница; таким же пограничным, замершим на краю чувствовал себя краткий и бурный русский религиозный и культурный ренессанс. Окуджава прощается с ним – из будущего, отлично зная, чем кончился праздник; но хоронит он и собственные надежды. 1966 год – год процесса Синявского и Даниэля, обозначившего окончательный разрыв с «оттепельными» иллюзиями; год очередного заморозка, год первого серьезного обращения Окуджавы к исторической прозе – и не случайно темой этой прозы стала эпоха после Декабрьского восстания. О том же – в начале другого заморозка – писал главный (и почти не называемый вслух) учитель Окуджавы в исторической романистике – Юрий Тынянов, в чьей «Смерти Вазир-Мухтара» на первой же странице сказано: «На очень холодной площади в декабре месяце 1825 года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой». Об этом – пьеса «Глоток свободы» и роман «Бедный Авросимов». Об этом же – и «Прощание с новогодней елкой»: начались будни, надежды придется оставить.
Кто в этом виноват? Только ли время? Да нет, все виноваты – и прежде всего те, кто этот праздник плохо защищал:
Мы в пух и прах наряжали тебя,
Мы тебе верно служили,
Громко в картонные трубы трубя,
Словно на подвиг спешили…
<���…>
И, утонченные, как соловьи,
Гордые, как гренадеры,
Что же надежные руки свои
Прячут твои кавалеры?
Интервал:
Закладка: