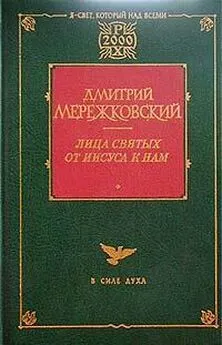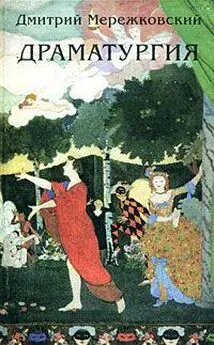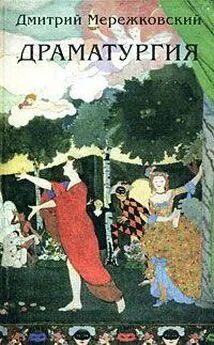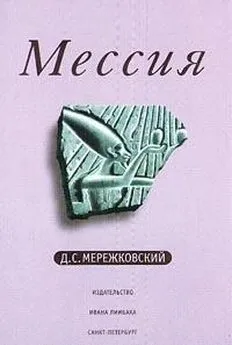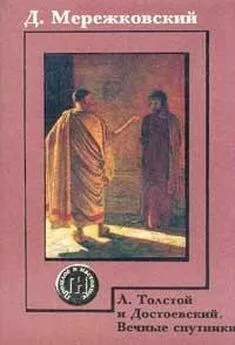Дмитрий Мережковский - Павел. Августин
- Название:Павел. Августин
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Мережковский - Павел. Августин краткое содержание
В трилогию «Лица святых от Иисуса к нам» русского писателя и философа Д.С.Мережковского (1865 – 1941) вошли книги «Павел. Августин» (1936), «Франциск Ассизский» (1938) и «Жанна д`Арк» (1938), которые фактически являются продолжением его «Иисуса Неизвестного». В новой трилогии автор снова обратился к своей главной теме, соединив в одном религиозно-философском произведении многовековую мистерию христианства и современность.
Павел. Августин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Был язычником, не слишком, впрочем, ревностным, а жена его, Моника, была христианкою, тоже не слишком ревностной, – «медленной», «косной», tardior, по слову самого Августина. [128]«Жили супруги в добром согласии», вопреки различью веры. Через много лет по смерти мужа Моника выберет себе место для могилы рядом с ним, «чтобы и в смерти быть в таком же тесном союзе любви, как при жизни». Будет соединять их и Августин, в благодарных молитвах за обоих вместе – за грешного отца и святую мать. [129]
«Сердцем был Патриций очень добр, но вспыльчив до бешенства», – так что соседки удивлялись, что Моника «ходит без синяков, – не то что они, при лучших, казалось бы, мужьях». Эти безумные припадки гнева его, так же как постоянную супружескую измену, побеждала Моника тихой, явной уступчивостью и тихим тайным упорством, которыми мало-помалу овладела мужем так, что настоящей хозяйкой в доме сделалась она; [130]она же решала и решила судьбу Августина.
XIII
Новорожденный не был крещен, по воле не отца-язычника, а христианки-матери. Многие думали тогда, что чем позже креститься, тем лучше, потому что все грехи смываются в купели, а совершенные после крещения особенно тяжки, может быть, даже непростимы вовсе.
Только крестным знамением осенила мать чело новорожденного, вложила в уста его щепотку «освященной соли», чтобы нечистый дух не вошел в младенца, и внесла имя его в церковные списки «оглашенных», catechumeni. [131]
Имя его было двойное: «Аврелий Августин». Первое, должно быть, от отца, «язычника», – забыто будет навсегда; останется только второе, «христианское», должно быть, от матери. Но, сколько бы Августин ни забывал «Аврелия», сколько бы ни отрекался от него, – никогда не забудет, не отречется до конца; вечно будет раздираться между «Августином» и «Аврелием», так же как Павел – между «Павлом» и «Савлом».
Кажется, «огненную силу», vigor igneus, африканской крови унаследовал он от отца, а от матери – умеряющий холод крови италийской, северной (в жилах у многих туземцев Римской Северной Африки текла италийская кровь). Если так, то в самом Августине Аврелии так же, как в родной земле его, борются и сочетаются Север и Юг, Европа и Африка; чувствуется Августин сквозь Аврелия, так же как в Тагастских долинах сквозь огненное дыхание пустыни веет свежая влага дремучих лесов.
XIV
Первая и главная его учительница – мать. «Имя Спасителя моего всосал я с молоком матери». [132]Благодарную память о том сохранит он до конца дней.
На восьмом году мальчика отдали в городскую школу, где будущий великий ученый начал с того, что возненавидел все науки, особенно греческий язык и арифметику. Ленится, «любит только играть» да слушать волшебные сказки о древних богах. Школьный учитель наказывает его жестоко палкой, розгой и даже малым подобием «скотского бича». Мальчик жалуется на побои отцу и матери, а те только «смеются». Судя по тому, как вспоминает он об этом через сорок лет, первая глубокая рана, нанесенная детскому сердцу его, нанесена этим равнодушным сердцем матери. Вспомнит, может быть, о той же ране, через семьдесят лет, незадолго до смерти, когда скажет: «Кто не ужаснулся бы и не пожелал бы лучше умереть, если б предложили ему снова пережить все муки детства?» [133]
XV
Матерью земной покинутый, молится он Отцу Небесному: «Сделай, сделай, сделай, чтоб меня учитель не бил!» – «Связки языка моего повреждал я, rumpebam nodos linguae meae, – так исступленно молился». Но не исполнилась молитва: на следующий день учитель бил его еще сильнее. И понял он наконец, что Богом покинут так же, как людьми.
В этой-то муке первой неуслышанной молитвы, может быть, и почувствовал впервые, без слов, без мыслей то, что будет мукой всей жизни его, – вопрос: «Что такое зло? Quid sit malum?» [134]Всеблаг ли Бог, но не всемогущ или всемогущ, но не всеблаг?
Кажется, около этого времени так тяжело заболел, что был почти при смерти. «Ты, Господи, знаешь, с какой надеждой и верой умолял я тогда мать о крещении… Горем и страхом пораженная, она уже сделала все, что для этого нужно… Но мне стало вдруг легче, и таинство было отложено» (все потому же: чем позднее креститься, тем лучше). Думает он, конечно, и о матери, вспоминая об этом и обличая других: «Часто говорят (об оглашенных): пусть еще делает, что хочет: ведь он не крещен». Но отчего же не говорят о том, кто лечится от ран: «Пусть еще ранит себя: ведь старые раны у него еще не зажили».
Если бы спросили Августина, кто из людей был главным для него орудием спасения, он ответил бы, не задумываясь: «Мать».
– «В духе, она родила меня, с большими муками, чем в теле».
– «Сына крови своей сделала сыном слез» [135]Выплакала, вымолила его у Бога. Кажется, нельзя больше любить, чем она его любит. Но вот хочет ему сделать добро – и делает зло. Если бы знала, на какие муки, заблуждения, отступления от Христа, обрекала его этим отказом в крещении, то как ужаснулась бы! Но не знала – делала зло, и помимо нее, вопреки ей, из зла вышло добро.
Надо ли было Августину креститься в самом начале жизни? Нет, не надо. Но вовсе не потому и так далеко от того, почему думала мать, что, если бы тогда ей сказали об этом, она не поверила бы и даже не поняла бы, что ей говорят. Надо ему было выйти из церкви, отступить от Христа и снова вернуться к Нему, чтобы сделаться в веках учителем всех уходящих из Церкви, отступников; надо было самому, ослепнув, заблудиться, чтобы выводить на дорогу всех слепых, блуждающих; надо было самому погибать, чтобы сказать всем погибающим: «Братья мои, я не хочу спастись без вас!» [136]
Только в таких муках мог родиться от св. Моники св. Августин.
XVI
На тринадцатом году мальчика отправили в соседний город Мадавр, цветущую римскую колонию, чтобы продолжать учение. [137]
Здешние учители, усердные поклонники древних богов, помня недавние, золотые для язычества, дни императора Юлиана Отступника, учат детей так, как будто никогда никакого христианства и не было. Это для Августина не пройдет даром: маленький язычник Аврелий выйдет из школы почти таким же «отступником», как великий язычник Юлиан.
Здесь, в Мадавре, учится он уже не из-под палки, а по собственной охоте. Но года через три должен был вернуться в Тагаст, потому что дела отца его были так плохи, что платить за учение сына он уже не мог. Весь шестнадцатый год жизни провел Августин в праздности, начиная томиться и мучиться «плотскою похотью, libido». [138]
В том же году умер отец, крестившись незадолго до смерти. Друг отца, богатый тагастский землевладелец Романиан, взял Августина на свое попечение и отправил его, на свой счет, для окончания наук в Карфаген. [139]
XVII
«Тернии похоти моей так разрослись, что покрыли меня с головой» (уже в тагастской праздности), а «только что я прибыл в Карфаген, как охвачен был отовсюду трещащим костром похотей». – «Я валялся в их нечистотах, как в благовонных мастях, и в самую гущу их втаптывал меня все глубже невидимый Враг и соблазнял, потому что я хотел быть соблазненным». – «Я ненавидел все безопасные, без мышеловок, пути» – т. е. карфагенские улицы, без домов терпимости. – «Я любил погибать, amavi perire». «Похотью сплошной» была тогда вся его жизнь, libido sine ullo inserstitio. «Будь я только уверен тогда, что душа не бессмертна и что на том свете не будет за грехи возмездия, я предпочел бы Эпикура всем учителям», – значит, и Христу предпочел бы. «А если бы дано мне было и бессмертие, в вечном сладострастии, без всякого страха его потерять, то почему – спрашивал я себя, – это не было бы совершенным блаженством и что еще я мог бы пожелать?» [140]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: