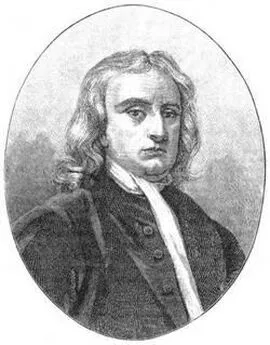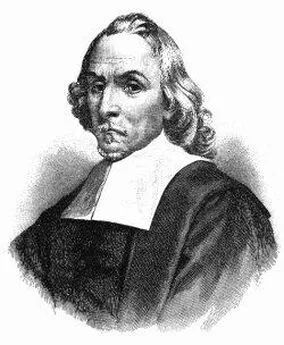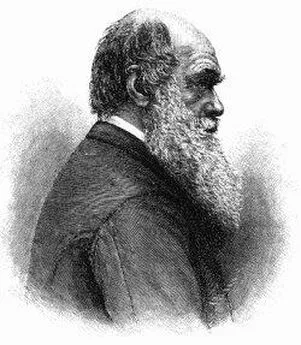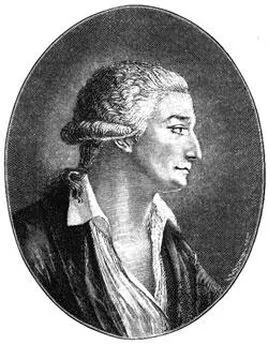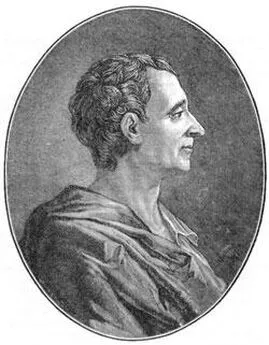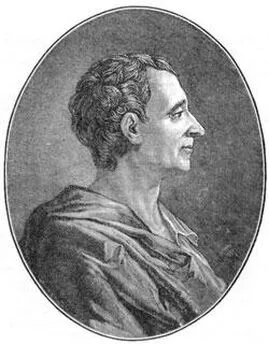Михаил Энгельгардт - Луи Пастер. Его жизнь и научная деятельность
- Название:Луи Пастер. Его жизнь и научная деятельность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Энгельгардт - Луи Пастер. Его жизнь и научная деятельность краткое содержание
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
Луи Пастер. Его жизнь и научная деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот еще вариант: жидкость наливается в баллон с длинным, тонким, изогнутым на манер лебединой шеи горлом, кипятится и оставляется в покое. Жидкость остается светлой, брожение не происходит, хотя воздух свободно проникает в баллон. Дело в том, что, проходя медленно по изгибам шейки, он оставляет на ее стенках пыль и зародышей. Благодаря этому жидкость остается недели и месяцы без изменения. Нагните баллон так, чтобы жидкость наполнила шейку, и поставьте его в прежнее положение. На другой же день жидкость замутится, начнется разложение, появятся мириады вибрионов.
Опыты Пастера решили вопрос – не без долгой и ожесточенной, однако, борьбы. Мы скоро рассказали, но дело делалось гораздо медленнее. Пять лет, с 1860-го по 1864-й, тянулась война Пастера с Пуше, Мюссе и другими сторонниками самозарождения. Он варьировал свои опыты на всевозможный лад, производил их с самыми разнообразными жидкостями и настоями и так же неуклонно и последовательно, как в войне с Либихом по вопросу о брожении, сбивал с позиции своих противников. Война кончилась его торжеством; противники отступили, не признав себя побежденными, но исчерпав доказательства, так что дальнейшего спора просто-таки нельзя было вести, и ученый мир не мог не признать победу Пастера, который, по выражению Пола Бера, “заклепал в конце концов все пушки противников”.
Мы не станем вдаваться в детали этой борьбы. Много интересных и оригинальных опытов произвел Пастер,– опытов, послуживших исходными пунктами важных исследований, и все они подтверждали его основное положение: раз опыт поставлен так, что микроорганизмы не появляются, никакого самозарождения не происходит.
Полемика между Пуше и Пастером волновала не только ученый мир. Общество заинтересовалось ею и разделилось на два лагеря, ожесточенно воевавшие в газетах и журналах. Отголоски этой войны можно найти и в нашей тогдашней литературе; в журналах появлялись статьи о самозарождении; в числе прочих – резкая статья Писарева в защиту взглядов Пуше.
Причиной этого всеобщего внимания к вопросу о самозарождении был частью высокий интерес проблемы, а пуще того обстоятельство совсем постороннее. К чисто научной теме – капитальному биологическому вопросу – приклеили выводы общественного характера, прицепили вовсе не связанные с нею интересы религии и морали, свободного мышления и почитания догматов… Самозарождение явилось лозунгом материализма и всей критически мыслящей, отвергавшей догматизм части общества; рождение от себе подобных– девизом… не то чтобы религиозных людей вообще – этого нельзя сказать,– а людей, связывающих с религией целый ряд выводов запретительного, непускательного, гасительного и душительного свойства.
Клерикалы провозгласили Пастера своим вождем, к ним, как водится, примкнули охранители всякого рода; свободомыслящие встали за Пуше, к ним присоединились прогрессивные элементы общества. Из ученого, отыскивающего истину, из мыслителя, силой логики приведенного к известному принципу, Пастер превратился– в изображении клерикалов – в нового Петра Амьенского, затеявшего крестовый поход против неверия. Он – по уверению Муаньо – “решился обратить к спиритуализму материалистов и скептиков. Он взял на себя священную миссию: спасать человеческие души”.
В действительности у Пастера была задача более благодарная и серьезная. Он решал научную проблему, к которой неизбежно приводили его первые опыты и от разрешения которой зависела вся его дальнейшая работа с ее неисчислимыми последствиями для человечества.
В споре с Пуше он действовал как истинный ученый, опровергая своего противника опытами, и только опытами. Но, к сожалению, он не ограничился чисто научной постановкой вопроса и благосклонно принял навязанную ему роль Петра Амьенского. Надо заметить, что вне своей науки Пастер был человеком традиционных воззрений, которые принимал без всякой критики, как будто весь его гений, критический ум, скептицизм поглощались наукой (да так оно и было), а на другие вещи уж ничего и не оставалось. Он принимал религию, как учили его в детстве, со всеми последствиями, с целованием туфли Его Святейшества и тому подобным. Воплощение скептицизма, неверия и критического духа в научных вопросах, он проявлял веру бретонского мужика или даже “бретонской бабы”, по его собственному выражению, конечно преувеличенному.
Итак, он не ограничивался сообщениями о своих опытах, но присовокуплял к ним благочестивые замечания насчет того, что торжество “гетерогении” (учения о самозарождении) было бы торжеством материализма, что идея самозарождения устраняет идею Бога и тому подобное.
Перечитывая теперь полемические статьи того времени, только удивляешься курьезной постановке вопроса.
Начать с того, что вопрос о самозарождении, как и все вообще естественноисторические вопросы, вовсе не связан с идеей Бога. Допустим, что самозарождение – доказанный факт: религиозный человек от этого не превратится в атеиста; он скажет: “значит, Бог наделил материю способностью порождать живые существа”. Положение неуязвимое, неопровержимое и недоказуемое.
Средневековые ученые, допуская самозарождение, ничуть не колебались в своей вере.
И наоборот, самозарождение опровергнуто, – что же из этого? Атеист все-таки останется при своем. Можно допустить идею вечности жизни, – эта идея встречает не больше и не меньше затруднений, чем идея вечности материи. Правда, с точки зрения эволюционизма надо представлять себе в начале мира простейшее вещество, из которого позднее образовались элементы, а еще позднее – сложные тела, а еще позднее – организованные, то есть живые. Но идея вечности не допускает именно начала мира, первичного состояния материи, ставя постоянно вопрос: а что же было раньше этого начала, первее этого первичного состояния, что было в ту вечность, которая лежит за этим началом? И этот вопрос возникает без конца, и начало мира отодвигается вдаль без остановки, то есть, иными словами, начало мира отрицается. В этом отрицании – вся суть идеи вечности. Она дает отрицательное решение вопросу – единственно правильное, потому что всякое положительное решение приводит к абсурду. Начало, продолжение, конец допустимы лишь для вещей конечных, например, для нашей земли, для нашей планетной системы, для созвездия, но лишь только мы переходим к целому, ко всему, то начало уходит в бесконечность, а с ним уходит в бесконечность и начало жизни. Нельзя представить себе момент, когда не было жизни, живых существ, потому что за этим моментом лежит вечность, в течение которой должны были явиться живые существа, и так далее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: