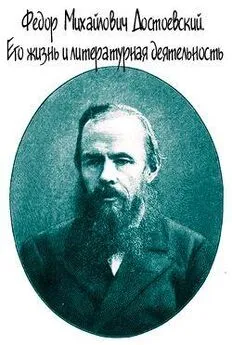Евгений Соловьев - Дмитрий Писарев. Его жизнь и литературная деятельность
- Название:Дмитрий Писарев. Его жизнь и литературная деятельность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Соловьев - Дмитрий Писарев. Его жизнь и литературная деятельность краткое содержание
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
Дмитрий Писарев. Его жизнь и литературная деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
“По математическому, – писал он, – не пойду, потому что математику ненавижу и в жизни своей не возьму больше ни одного математического сочинения в руки; по естественному тоже не пойду, потому что и там есть кусочек математики, да и физика почти то же самое, что математика; юридический факультет сух (это решение может показаться довольно отважным, тем более что я тогда еще в глаза не видал ни одного юридического сочинения, – но я уже заметил прежде, что мы мыслим афоризмами, так отучилось и со мною); в камеральном факультете нет никакой основательности. (Вот вам еще афоризм, который ничуть не хуже предыдущего). Управившись, таким образом, с четырьмя факультетами, я увидал, что передо мной остаются в ожидании только два: историко-филологический и восточный… Разве на восточный? Поехать при посольстве в Персию или Турцию… жениться на азиатской красавице?… Это, впрочем, пустяки… А вот что: ведь на восточном придется осиливать несколько грамматик, которые, пожалуй, будут похуже греческой… Ну, и Бог с ним! Значит – на филологический”.
На том Писарев и закончил свои размышления.
В атмосфере филологического факультета он быстро проникся научным духом. Вначале, впрочем, он чувствовал себя очень неловко в обществе своих же товарищей-студентов. Тут он впервые услышал такие вещи, которые заставили его задуматься. Говорили об исторической критике, об объективном творчестве, об основе мифов, об отражении идей в языке, о гриммовском методе, о миросозерцании народных песен; ухитрялись даже спорить и, к ужасу Писарева, рассуждали о тех критических и ученых статьях в журналах, которые были ему недоступны, как полярные льды. “Я, – рассказывает Писарев, – только моргал глазами и даже не пытался скрыть того, как глубоко удручает меня сознание моего внутреннего безгласия”.
Итак, надо было учиться, чтобы понять эти мудрые термины, эти таинственные вопросы. Но как учиться? Прежде чем окончательно выбрать свой путь, Писареву пришлось претерпеть чуть ли не сорок мытарств, из которых о наиважнейших мы упомянем:
Мытарство 1-е. Сблизившись со студентами, профессор Креозотов (Касторский) [11]предложил им однажды предпринять общую работу. Мечтавший о строго научной деятельности Писарев навострил уши. Предложение Креозотова состояло в том, чтобы общими силами перевести с греческого географическое сочинение Страбона. Предложение было принято, и каждый желающий получил по пять печатных листов довольно мелкого греческого текста. “Я, – говорит Писарев, – ревностно начал переводить и потому могу объяснить читателю, что это была за работа. Представьте себе, что какой-нибудь господин раскрыл перед вами атлас, взял в руку указку и, водя ею взад и вперед по карте, рассказывает вам, что вот это мыс А, а в двух верстах от него залив В… и все в том же роде. И таких прогулок по атласу набирается листов до сорока, а мне предстояло перевести 5, – т. е. 80 страниц. Читатель понимает, конечно, как сильно такая работа могла обогатить ум и как важно было для русской публики получить издание Страбона в русском переводе… Дело, как и следовало ожидать, расклеилось. Креозотов собрал растерзанные части своего Страбона”.
Мытарство 2-е. Изучение кельтской поэзии. Впрочем, о судьбе этого изучения мы ровно ничего не знаем; сам Писарев лишь вскользь упоминает о нем в письме к матери от 1857 года, и, надо думать, кельтскую поэзию постигла участь перевода Страбона.
Мытарство 3-е. Еще не разделавшись со Страбоном, Писарев вздумал обратиться к тому же Креозотову за советом по части строго научных занятий. Краснея от волнения, он “покаялся” ему, что желает специально заняться историей, и убедительно просил его объяснить, как надо поступать в таком затруднительном случае. Выслушав исповедь юноши, Креозотов немедленно посоветовал ему читать энциклопедию Эрша и Грубера и, кроме того, источники древней истории – Геродота, Фукидида и пр. Но – увы! – злой рок преследовал Писарева. Взявши в библиотеке первый том энциклопедии, он увидел, что даже буква А далеко не исчерпывается этим томом, который, однако, оттягивал ему руки. Рассчитав, что Эрша и Грубера пришлось бы читать лет десять, Писарев предпочел не тревожить больше ни одного из фолиантов. Так же поступил он и с Геродотом.
А между тем научный дух не укрощался. Было задето и самолюбие. Трое или четверо из близких товарищей Писарева уже отмежевали себе ту или другую науку для специальных занятий; другие говорили, что не остановились в выборе, но что вот они читают то-то и то-то и при этом размышляют так-то и так-то. Письма Писарева 1857 года полны мечтами о магистерском экзамене, о кафедре. Очевидно, эта мечта не дает ему ни минуты покоя. Он даже подбадривает себя и говорит: “Я нахожусь в самом блаженном настроении духа: утром штудирую Гегеля, вечером читаю Геродота. Наконец-то познакомился я с настоящей наукой!..”
До настоящей науки было, однако, далеко. Пока он аккуратно посещает и записывает лекции. Особенно интересовали его лекции профессора Телицына (Сухомлинова), [12]читавшего теорию языка и историю древней русской словесности.
“В этих лекциях, – говорит Писарев, – было действительно много хорошего. Телицыну было лет тридцать с небольшим: он любил студентов и искал между ними популярности; лекции свои он составлял с большой старательностью и всегда заканчивал их какой-нибудь фиоритурою, которая неминуемо должна была поднять в душе студентов целую бурю добрых и возвышенных чувств… Я увлекался в одно и то же время и чувством массы, и своею личною потребностью найти себе учителя, за которым я мог бы следовать с верой и любовью. Мысли о занятиях историей замерли во мне благодаря советам Креозотова. В этих мыслях никогда не было ничего серьезного, и я думал приняться за историю только потому, что история – самая яркая наука нашего факультета; она первая бросается в глаза, и я схватился за нее, как ребенок хватается за пламя свечи… Теперь же, когда я всем сердцем возлюбил Телицына, теперь, когда он гальванизировал меня и товарищей моих лукавыми хвостиками своих лекций, теперь, когда в душе моей зародилось неудержимое желание посвятить себя – чему, зачем? – ну, все равно – чему бы то ни было, а только посвятить себя, – наука, истина, свет, деятельность, прогресс, развитие так и кувыркались у меня в голове, и это кувыркание казалось мне ужасно плодотворным, хотя из него ничего не выходило, да и выйти ничего не могло. Хочу служить науке, хочу быть полезным, возьмите мою жизнь и сделайте из нее что-нибудь полезное для науки. Восторгу было много, смыслу мало…”
Мытарство 4-е. Последняя лекция Телицына перед святками 1856 года была ознаменована многозначительным событием. Обожаемый профессор сказал своим слушателям, что для пользы науки и для назидания студентов следует перевести несколько умных исследований и рассуждений. На долю Писарева досталась “зловещая брошюра Штейнталя”… Он мысленно перекрестился и протянул к ней руку. Брошюра трактовала о “языкознании Вильгельма Гумбольдта и философии Гегеля”, и когда Писарев приступил к чтению, то у него с первых же строк закружилась голова. Он не понимал ни одной фразы и, видя себя окончательно погибшим, решился не читать, а прямо переводить, причем, к его собственному изумлению и “независимо от его воли”, являлся какой-то общий смысл, точно так же, как в чтении чичиковского Петрушки из отдельных букв всегда составлялось какое-нибудь слово, которое иногда и черт знает что значило.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: