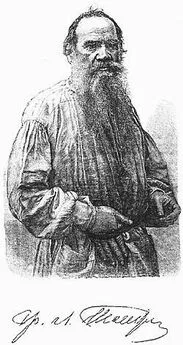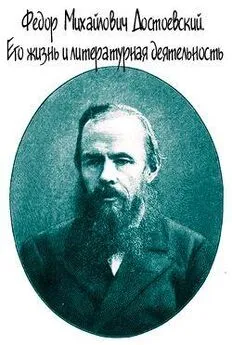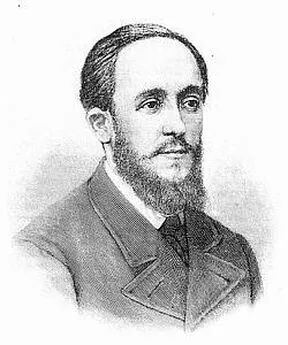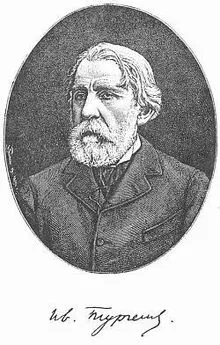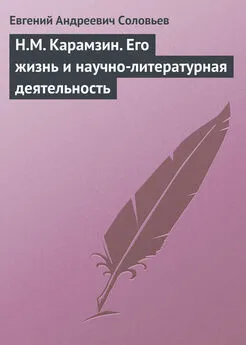Евгений Соловьев - Л. Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность
- Название:Л. Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Соловьев - Л. Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность краткое содержание
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
Л. Н.Толстой. Его жизнь и литературная деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
ГЛАВА ХI. О ПЕССИМИЗМЕ И РУСОФИЛЬСТВЕ ГРАФА ТОЛСТОГО
В последних из только что приведенных писем нельзя не заметить приближения кризиса. Толстой говорит, что он, здоровый человек, постоянно думает о смерти, а всякому известно, что действительно здоровые люди не только не думают о смерти, но считают себя бессмертными, или, точнее, поступают и живут так, как будто они были бессмертны. В то же время он не перестает думать о Боге – этой главной задаче жизни. Ему становится подозрительна привязанность к житейскому, и он предостерегает от нее Фета. Бодрость исчезла; расположение духа постоянно нехорошо, тревожно. К чему стремиться? Зачем стремиться? Он желает как можно меньше работать для удовлетворения личных своих потребностей, чтобы не заставлять других служить себе. Программа близкого кризиса уже изложена в этих тревожных и беспокойных мыслях. Прежний скептицизм, обращенный на себя и все окружающее, возвращается с удвоенной, накопленной силой, и мы предчувствуем, что уже ничто теперь не устоит против него. Обидные и преступные противоречия жизни выступают ярко, резко, неумолимо. Как это люди, одушевленные, допустим, самыми благородными и возвышенными идеями освобождения и спасения ближних – в данном случае братьев-славян, – могут идти убивать других таких же людей, гордиться своими кровавыми подвигами и принимать рукоплескания… за что? за убийство?… А тут еще всякие мелочи вроде какой-то Α-вой, которая “со своим тщеславием и фальшивым сочувствием чему-то неопределенному” суетится и хлопочет, гордо задирает голову, жужжит, как надоедливая муха, о страданиях братьев-славян, о корпии, кисетиках и трубочках, а когда нахмуренное лицо слушателя говорит ей довольно ясно: “Отстаньте, сделайте милость”, она с убийственной язвительностью спрашивает: “А вы, значит, не сочувствуете братьям-славянам?… а, значит, освободительное движение для вас ничего?” – и пойдет, пойдет, как некогда madame Кукшина, беседуя с которой, Базаров не мог удержаться и не проговорить: “Тьфу, дура!” Конечно, все эти А-вы, Кукшины, занятые сегодня курением табаку во имя эмансипации женщин, завтра щипанием корпия во имя освободительного движения братьев-славян, послезавтра продажей шампанского в пользу голодающих или собиранием грошей на сестринский подарок г-же Адан и “la grande république française” [14]– мелочь. Но они бесчисленны, они жужжат, как мухи, надоедают, злят своим тщеславием, самодовольством, тупостью, билетами на благотворительные вечера и пр. Скучно и глупо, а ведь имя А-вым – легион, их много.
Но прежде чем описывать кризис, я позволю себе сделать небольшое отступление и поговорить о пессимизме и русофильстве графа Толстого.
Любопытно прежде всего, что при отрицании роли героев в истории и низведении всего хода событий к массовому началу Толстой постоянно говорит и повторяет, что это русская точка зрения. “Русский ум, – читаем мы например, – отказывается признать героя, который бы мог управлять людьми, создавать события”. В характеристике Кутузова мы встречаемся с тою же мыслью, хотя и не так еще резко выраженной: “Простая, скромная и потому истинно величественная фигура эта не могла улечься в ту лживую форму европейского героя, мнимо управляющего людьми, которую придумала история”. Я прошу читателя припомнить теперь ту характеристику, которую дает Толстой Наполеону и Кутузову. Собственно, это не характеристика, а противопоставление. То, что есть у Наполеона, непременно отсутствует у Кутузова. Наполеон проникнут сознанием собственного величия; он самонадеян, он знает, что каждый его шаг и слово принадлежат истории, и постоянно красуется, постоянно взвешивает, что сказать, что сделать; он убежден, что от него, от его гения зависит выиграть сражение, передвинуть многомиллионные массы людей с запада на восток или с востока на запад. В Кутузове ничего этого нет. Тщеславие, самомнение, гордость, преувеличенное сознание собственной силы – это западный герой; простота, скромность, смирение – героизм русский. К этим основным чертам русского характера Толстой возвращается постоянно. О Пьере Безухове он говорит например: “Два одинаково сильные чувства неотразимо привлекли Пьера к исполнению его намерения… Первое… другое было то неопределенное, исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному, человеческому – ко всему тому, что считается большинством людей высшим благом мира…” В чем же выражается это неопределенное исключительно русское чувство? “Это то чувство, – говорит Толстой, – вследствие которого охотник-рекрут пропивает последнюю копейку, запивший человек перебивает зеркала и стекла без всякой видимой причины и зная, что это будет стоить ему его последних денег, – то чувство, вследствие которого человек, совершая (в пошлом смысле) безумные дела, как бы пробует свою личную власть и силу, заявляя присутствие высшего, стоящего вне человеческих условий суда над жизнью…” (“Война и мир”, т. III, с. 500–501). Нельзя сказать, чтобы все это было особенно лестно. Граф Толстой, однако, не останавливается на этом и, давая характеристику различным народностям, говорит: “Немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи – науки, то есть мнимого знания совершенной истины. Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично как умом, так и телом непреодолимо обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он – гражданин благоустроеннейшего государства в мире и потому как англичанин знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя, и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь. Немец самоуверен хуже всех и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина”.
Опять-таки не лестно быть самоуверенным потому, что я ничего не знаю и знать ничего не хочу. А между тем несомненно, что русский характер и нелестные (для меня, например) черты этого характера прямо симпатичны графу Толстому. Господин Цион не без основания уверяет даже, что нерусского человека Толстой и изобразить не может иначе, как со злобой и сарказмом (Наполеон), с иронией и презрением (Рамбаль, m-elle Бурьен). Во французе Толстой видит только фразера, кривляку и хвастуна, хотя и очень добродушного; француженка – интриганка, произносящая с закатом глаз: “Ma mère, ma pauvre mère”… [15]
Отчасти Цион прав. Все типы иностранцев или русских, зараженных иностранным влиянием, у Толстого отрицательны. Пьер Безухов становится настоящим хорошим человеком, только сблизившись с “ними”, с массой, и отделавшись от заразы западного индивидуализма и западной веры в разум. Сам Толстой разочаровался в европейцах за их “западный дух”…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: