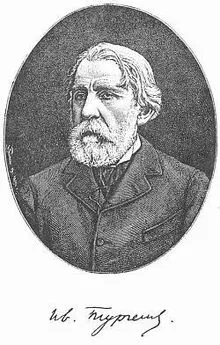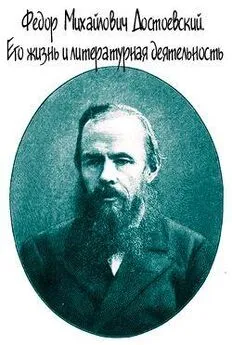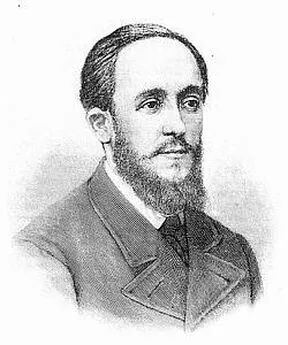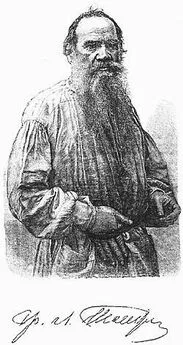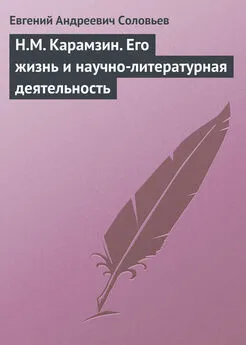Евгений Соловьев - И. С.Тургенев. Его жизнь и литературная деятельность
- Название:И. С.Тургенев. Его жизнь и литературная деятельность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Соловьев - И. С.Тургенев. Его жизнь и литературная деятельность краткое содержание
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
И. С.Тургенев. Его жизнь и литературная деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С отношений Тургенева и Гоголя мы и начнем наш рассказ. Сначала, впрочем, упомянем об одном важном эпизоде. В 1850 году умерла В.П. Тургенева и оставила в наследство сыну громадные, прекрасно устроенные имения. Он внезапно стал богачом, человеком безусловно свободным и безусловно независимым. Что же сделал он для своих крестьян? Вот его собственные слова: “Я немедленно отпустил дворовых на волю, пожелавших крестьян перевел на оброк, всячески содействовал успеху общего освобождения, при выкупе везде уступил пятую часть – и в главном имении не взял ничего за усадебную землю, что составляло крупную сумму. Другой, быть может, на моем месте сделал бы больше и скорее, но я обещался сказать правду и говорю ее, какова она ни на есть. Хвастаться ею нечего; но и бесчестия, я полагаю, она принести мне не может”.
Теперь об отношениях к Гоголю. Мы уже говорили о первой их встрече в аудитории Петербургского университета; от первой встречи до второй (1851 год) прошло с лишком 15 лет. “Меня, – пишет Тургенев, – свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Я не готовился ни к какой беседе, а просто жаждал видеться с человеком, творения которого я чуть не знал наизусть. Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя; теперь же и нет никого, на ком могло бы сосредоточиться общее внимание”. Гоголь в свою очередь с симпатией относился к молодому литератору, хвалил его рассказы и как-то раз заметил даже, что “теперь стоит читать только одного Тургенева”. Гоголь весело встретил гостей и проговорил: “Нам давно следовало быть знакомыми”. Несмотря на веселый тон, вид его поразил Тургенева. Он казался худым и испитым человеком, которого успела уже порядком измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению лица. “Какое ты умное, странное и больное существо”, – невольно думалось, глядя на него. “Помнится, – продолжает Тургенев, – мы с Щепкиным ехали к Гоголю как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове: вся Москва была о нем такого мнения. Михаил Семенович предупредил меня, что с ним не следует говорить о продолжении “Мертвых душ”, – об этой второй части, над которою он так долго и упорно трудился и которую он, как известно, сжег перед смертью”. При встрече Гоголь, против обыкновения, оказался очень словоохотливым. Он много и прекрасно говорил о литературе, о призвании писателя. Только когда он завел речь о цензуре, чуть ли не возвеличивая, чуть ли не одобряя ее как средство развивать в писателе сноровку, уменье защищать свое детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей, Тургенев увидел перед собою автора знаменитой “Переписки”. Разговор по инициативе самого Гоголя перешел на эту последнюю. Гоголь оправдывался как-то “беспокойно, смущенно и торопливо”, уверяя, что никогда не был в оппозиции, что и в юности держался тех же мыслей, и в доказательство приводил выдержки из “Арабесок”!.. В самый разгар беседы “какая-то старая барыня приехала к Гоголю и привезла ему просфору с вынутой частицей”. Визит на этом и закончился.
Вскоре после этого, в феврале 1852 года, Гоголь умер. Тургенев написал некролог, но петербургская цензура запретила печатать его, и он появился в “Московских ведомостях”. Это обстоятельство стоило Тургеневу порядочных неприятностей. “16 апреля, – рассказывает он, – я за ослушание и нарушение цензурных правил (хотя, заметим, некролог был рассмотрен и пропущен попечителем Московского округа Назимовым, – тем самым, который требовал, чтобы книги в библиотеках расставлялись “по росту”) был посажен на месяц под арест в часть. Первые 24 часа я провел в сибирке и беседовал с изысканно вежливым и образованным полицейским унтер-офицером, который рассказывал мне о своей прогулке в Летнем саду и об “арамате птиц”. Потом меня отправили на жительство в деревню”.
Подоплека этой истории довольно интересна. Статья о Гоголе, написанная приподнятым и риторическим языком, послужила скорее поводом, чем причиной ареста и высылки Тургенева. Истинная причина заключалась в том, что жандармское управление не могло простить автору “Записок охотника” духа его рассказов, который оно учуяло лучше даже, чем критика. Знакомство с Белинским, частые поездки за границу, рассказы о крепостных – все это делало Тургенева человеком подозрительным или, как выразился изысканно вежливый полицейский унтер, “невероятным”. Но и в самой статье было кое-что, что могло не понравиться наверху, именно ее восторженность.
“В то время, – говорит Головачева, – строго смотрели, чтобы литераторам не оказывали особенных почестей.
Тургенев был в отчаянии, когда запретили его статейку, и говорил Некрасову и Панаеву, что пошлет ее в Москву.
Панаев не советовал ему этого делать, потому что и так Тургенев был на замечании вследствие того, что носил траур по Гоголю и, делая визиты своим светским знакомым, слишком либерально осуждал петербургское общество в равнодушии к такой потере, как Гоголь, и читал свою статейку, которую носил с собой всюду. Эта статейка была уже перечеркнута красными чернилами цензоров. Когда Панаев упрашивал Тургенева быть осторожным, то он на это ответил: “За Гоголя я готов сидеть в крепости”.
Вероятно, эту фразу он повторил еще где-нибудь, потому что Дубельт, встретясь на вечере в одном доме с Панаевым, со своей улыбкой сказал ему: “Одному из сотрудников вашего журнала хотелось посидеть в крепости, но его лишили этого удовольствия”.
Арест и высылка Тургенева были обставлены очень некрасиво. Тогдашний попечитель Петербургского округа Мусин-Пушкин заверил высшее начальство, что он призывал Тургенева лично и лично передал запрещение цензурного комитета печатать статью. “А я, – говорит Тургенев, – г-на Мусина-Пушкина и в глаза не видал и никакого с ним объяснения не имел”.
Отсидевши три недели где следовало, Тургенев в мае, сопровождаемый жандармом, отправился в Спасское. “Все к лучшему, – говорит он. – Пребывание под арестом, а потом в деревне принесло мне несомненную пользу: оно сблизило меня с такими сторонами русского быта, которые при обыкновенном ходе вещей, вероятно, ускользнули бы от моего внимания”.
Домашний арест в Спасском не был строг, и Тургеневу скоро разрешили наведываться в Петербург по своим делам. Единственное лишение, которое он испытывал, было то, что ему не давали заграничного паспорта, так что вплоть до 1856 года он делил свое время между столицами и деревней. Работал он много, еще больше охотился и почти никогда не оставался один, даже в Спасском, куда то и дело наезжали его друзья: Д. Григорович, В. Боткин, Дружинин.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: