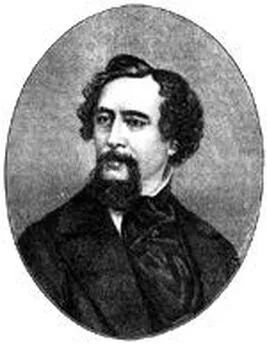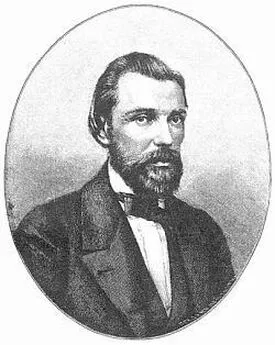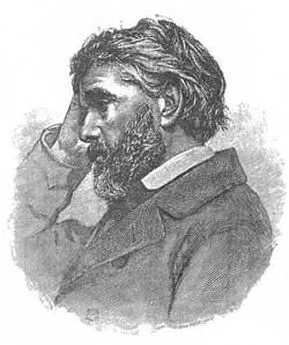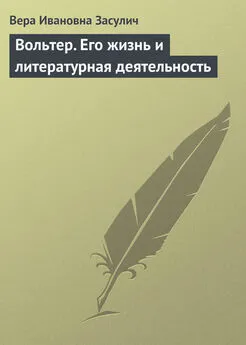И. Иванов - Уильям Шекспир. Его жизнь и литературная деятельность
- Название:Уильям Шекспир. Его жизнь и литературная деятельность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
И. Иванов - Уильям Шекспир. Его жизнь и литературная деятельность краткое содержание
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
Уильям Шекспир. Его жизнь и литературная деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Формулируя такое представление, мы только переводим на прозаический язык творческие замыслы самого поэта. Мимо всяких личных соображений мы следим за пером Шекспира, совершенно ясно указывающим путь.
Переделывая трагедию, поэт или распространил прежние монологи принца, или прибавил новые, неизменно подчеркивая его наклонность к отвлеченным рассуждениям пессимистического характера вследствие одиночества и неудовлетворенных идеальных запросов. На свидании с Розенкранцем и Гильденстерном Гамлет позднейшей редакции высказывает знаменитую идею об относительности добра и зла и о влиянии умственных понятий на нравственность, трогательно отстраняет намек на его честолюбие и вместо прежних четырех холодных стихов о своей тоске произносит целую глубоко прочувствованную элегию мировой скорби. Монолог Быть или не быть сильно расширен и в конце прибавлена идея, популярнейшая в гамлетовской литературе – о парализующем влиянии сознания на энергию и отвагу. Достаточно этих указаний, чтобы безошибочно определить намерения поэта. И что особенно важно, поэт с первого же появления хотел показать в лице Гамлета разочарованного идеалиста и идеолога, брошенного в вихрь удручающей прозы будто в знобящую холодную бездну. В исправленной пьесе принц после аудиенции отчаянно негодует на пошлость и ничтожество мира, толкует о самоубийстве и раз навсегда запечатлевает в нас представление о грядущей трагической борьбе духа и материи, теории и жизни, идеи и действительности.
Да, сколь бы громкими ни казались эти выражения для поэта XVI века и для героя, заимствованного из средневековой легенды, они вполне отвечают смыслу шекспировской трагедии. От легенды остался только остов фактического содержания – месть. Подобный мотив, конечно, мало соответствует культурному уровню героя, и поэт, облагораживая личность, мог бы подновить несколько и ее практическую задачу. Тогда бы он спасся от укоров так называемого «реального направления» шекспировской критики – в слиянии непримиримых культурных стихий в одной трагедии. Можно, конечно, и дальше распространить подобные упреки: например насчет пушек в хронике Король Джон, насчет барабанов в трагедии Кориолан; можно вспомнить и о морских берегах Богемии, о латинском языке героев Троянской войны и мало ли о чем еще. Но только все эти хронологические, географические и филологические поправки нисколько не подорвут основной цели шекспировского творчества: воспроизводить правду человеческой души и жизни. Какая разница, будет ли стоять та или другая ремарка к сцене или монологу, раз и сцена, и монолог написаны с голоса самой природы, своими истинами всегда и везде покрывающего все частности и подробности внешнего быта и истории? Какая разница, предстоит ли Гамлету кровавая месть или иная, более культурная задача? Смысл в том, что это жизненная, сложная, жестокая и реальная задача, а не величественная перспектива беспрепятственного героического осуществления в действительности научных и философских идеалов. И Шекспир не счел нужным прибегнуть к личному вымыслу: его целям удовлетворяла и легендарная тема.
Гамлет – сын века Реформации, сын поколения, провозгласившего свободу совести и мысли. Он живет в Виттенберге, учится до тридцати лет, готов остаться там на всю жизнь. Именно в этом городе поднялся первый протестующий голос Лютера, потом Бруно читал тут лекции и собирал сюда английскую молодежь, и здесь был произнесен приговор над старым католичеством, над старой наукой и над всем старым миросозерцанием человека. Это великое завоевание, но отнюдь не весть о безоблачном счастье. Новой мысли предстояло одолеть бесчисленное множество врагов, вступить в борьбу с вековыми силами косности и заблуждений. Она должна была в одно время разрушать и творить. Это – мысль воинствующая и творческая от начала до конца, и, естественно, с первых же шагов она встретила неисчерпаемый источник мучений в самой себе. При всех успехах новизны, какая разница оказывалась между тем, чего хотел мечтатель-идеалист, и тем, что возникало под покровом его идей! Они никогда не могли осуществиться в чистом виде. Человеческая среда неизменно пятнала их себялюбивыми вожделениями и своеволием инстинктов. И еще Лютер в порыве гнева обозвал мысль обольстительницей, орудием нечистого духа. Идеалист направил свой гнев не туда, где были его законные жертвы: вина лежала не в мысли…
То же разочарование томит сердце Гамлета с первого появления его на сцене действительности. Ему хотелось бы видеть мир отлитым в форму своих задушевных видений. А между тем не только мир продолжает существовать совершенно иным, – сами эти видения не всегда стройны и ясны. Есть что-то разрушающее их гармонию, какой-то тайный голос, вечно грозящий раздором в идеальном царстве грез. Это – инстинктивное сознание мыслью своего бессилия. Гамлету нужен окончательный вывод – ясный и точный. Ему необходимо все понять, так как его цель – все перестроить, создать новый мир, «восстановить распавшуюся связь времен». Но он бессилен многое понять, и ему кажется тогда, что он совсем ничего не понимает, что нет ни добра, ни зла, а только произвольные категории мысли. Он до такой степени сомневается в достоверности своего рассудка, что готов верить в привидения: он ведь убежден, что многое на небе и на земле недоступно никакой учености…
И необычайно развитая мысль Гамлета именно и бросает его в заколдованный круг. Он, враг всяких предрассудков, неизменный сторонник личных убеждений, совершенно неспособен принимать на веру чьи бы то ни было слова. И между тем под влиянием вечного сомнения, непреодолимой наклонности все анализировать Гамлет приходит к беспомощности личных человеческих усилий познать истину и к бесплодности своих логических построений, следовательно, снова возвращается к вере и даже к фатализму. Это – исконная драма человека, одаренного безграничными порывами духа и бессильного не только удовлетворить им, – даже определить их. Это драма самого мироздания, и она впервые воплощена в лице датского принца.
Но она слишком отвлеченна, слишком глубоко коренится в человеческом духе. Она не нашла бы сочувствия, даже признания у громадного большинства, и образ Гамлета прошел бы в толпе незамеченным и неоцененным. Тогда поэт заставил его пережить страдания, всем понятные, почти ежедневно происходящие на глазах у всех. Он собрал, кажется, все горе и всю жестокость существования на нашей планете и бросил в эту бездну мечтателя-идеалиста, не жившего и не знающего жизни.
Часто бывало, что люди, спасшись от смертельной опасности или потеряв близких и родных, бежали от мира, стремились схоронить свои дни в одиночестве. И все-таки их лишения – не драма датского принца. С ним произошло редкое несчастье, когда горе охватывает всю природу человека, когда не остается никакого просвета – будь то монастырь или смерть. Единственный путь тогда – спастись не от жизни, а от бытия, превратиться в ничто, даже после смерти не жить и не грезить.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: