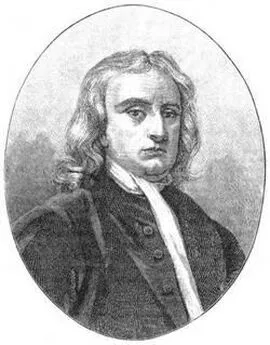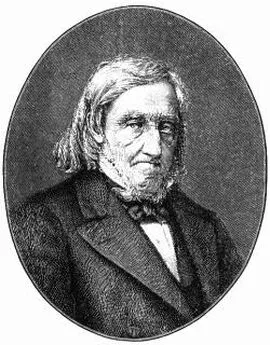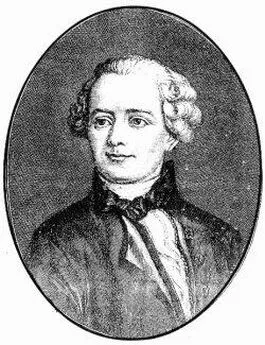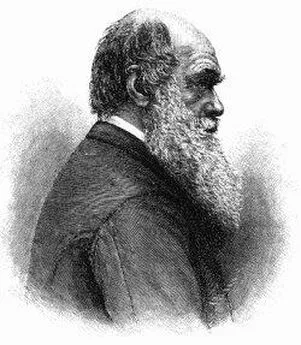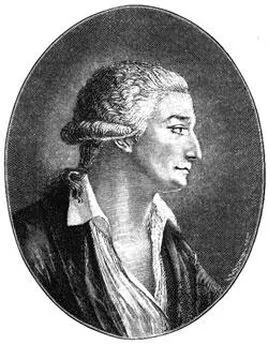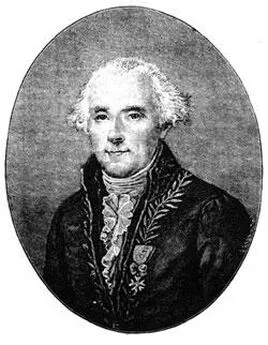Эрнест Ватсон - Артур Шопенгауэр. Его жизнь и научная деятельность
- Название:Артур Шопенгауэр. Его жизнь и научная деятельность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрнест Ватсон - Артур Шопенгауэр. Его жизнь и научная деятельность краткое содержание
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
Артур Шопенгауэр. Его жизнь и научная деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Шопенгауэр был совершенно чужд национального самомнения; он даже сам утверждал, что весь его патриотизм сводится к пользованию немецким языком. Он даже не любил, чтобы его считали немцем, и не упускал случая указывать на свое голландское происхождение. Для этого энергического человека были до того противны хвастливость и подражательность немецкой политики, что он беспощадно порицал у немцев то самое, что оставлял незамеченным или даже извинял у других народов. Для широты взгляда философа это абсолютное отсутствие узкогерманского патриотизма пришлось даже кстати. Он никогда не касался частных политических, а тем менее местных вопросов; он стоял выше их и относился с олимпийским величием к крупным политическим событиям. Только когда они слишком близко подходили к нему и угрожали нарушить его умственный и душевный покой, он начинал волноваться. Во время сентябрьских дней 1848 года его опасение перед наступлением господства охлократии достигло, высшей степени и он серьезно подумывал о том, чтобы бежать из Франкфурта. Но в более спокойные времена он находил, что журналисты уходят гораздо дальше него в своем пессимизме, хотя это делается большею частью не из убеждения, но ради личной выгоды. Он любил повторять, что в политическом отношении людям менее всего известно, что для них полезно и что бесполезно, и послужит ли данное событие к пользе или ко вреду их.
ГЛАВА VII
Шопенгауэр по убеждениям своим являлся не только мизантропом, – впрочем, только условным, как то было объяснено нами выше, – но и мизогином (ненавистником женщин) и мизогамом (ненавистником брака). Он утверждал, что сама природа обделила женщину в отношении духовном, рассудочном. Она отличается умственной близорукостью, склонна принимать видимость вещей за сущность дела и отдавать мелочам предпочтение перед серьезным делом. Умственный взор женщины, по преимуществу непосредственной, способен различать находящиеся вблизи предметы, но не в состоянии выйти из ограниченного кругозора; все прошедшее, отдаленное, отсутствующее производит на женщину лишь слабое впечатление. Вследствие этой же прирожденной ей недальновидности женщина склонна к расточительности. С другой стороны, именно потому, что женщина более мужчины отдается настоящему и более него способна наслаждаться сколько-нибудь сносной жизнью, ей присуща большая веселость и ясность духа. Кроме того, воспринимая вещи иначе, чем мужчина, и намечая всегда кратчайший путь к цели, женщина отличается большей трезвостью взглядов, чем мужчина, и видит в вещах лишь то, что в них действительно заключается. Таким образом, именно вследствие слабости женского разума все видимое, непосредственное, реальное имеет над женщиной гораздо большую власть, чем отвлеченные идеи; поэтому женщина легче поддается чувству сострадания, участливости, но зато уступает мужчине в отношении правосудия, справедливости, добросовестности. Как существо более слабое, женщина находит орудие самозащиты в хитрости. “Она, – говорит Шопенгауэр, – инстинктивно лукава, но вместе с тем, по неразумию и малой сообразительности, вздорна, капризна, тщеславна, падка на блеск, пышность и мишуру; в отношениях друг к другу она проявляет большую принужденность, скрытность, и враждебность, чем мужчины в отношениях между собою. Женщинам чуждо истинное призвание к музыке, поэзии и вообще к искусству; даже наиболее блестящие представительницы женского пола никогда не создавали чего-либо действительно великого и самобытного в художественной области; еще менее способны они удивить мир ученым творением с непреходящими достоинствами. Объясняется это тем, что женщина всегда и во всем обречена только на посредственное господство через того мужчину, которым одним она владеет непосредственно… Женщины во всех отношениях – второй, ниже мужчин стоящий слабый пол… По самой природе своей женщины, несомненно, обречены на повиновение; видно это уже из того, что любая из них, – раз она попадет в независимое положение, – добровольно отдается под опеку любовника или духовника, лишь бы только какой-нибудь мужчина властвовал над нею”.
При подобном взгляде на женщин становится понятным и скептицизм Шопенгауэра относительно любовного чувства, – скептицизм, доходящий иногда чуть не до цинизма. По его мнению, любовь, как бы она ни казалась платонична, везде и всегда была, есть и будет не что иное, как более определенное и строго индивидуализированное половое стремление, конечная бессознательная цель которого – рождение будущего человека. В этом смысле любовь как половое влечение есть “воля к жизни сама в себе”; человек, чувствуя любовь и влечение к женщине, в сущности только повинуется инстинкту, направленному к пользе и выгоде рода. Истинною целью любого житейского романа является произведение на свет новой особи. Конечно, любовь имеет многочисленные градации: она бывает тем страстнее, чем более любимая особа своими качествами удовлетворяет нуждам и потребностям любящего; но что любовь в сущности есть не что иное, как инстинкт, направленный к сохранению родового типа и к возможно сильному размножению его, это видно из тех мотивов, которыми руководствуется индивид при самом выборе объекта страсти. Эти мотивы, по мнению Шопенгауэра, троякого свойства: мотивы, способствующие сохранению родового типа в физическом отношении; мотивы, имеющие в виду поддержание духовных родовых свойств, и, наконец, в-третьих – мотивы, имеющие целью исправление недостатков обоих производителей.
Тем обстоятельством, что в основе любви лежат, по мнению Шопенгауэра, инстинкты, направленные исключительно ко благу рода, он объясняет и то, что самое чувство, связывающее влюбленных, оказывается скоропреходящим: с того момента, как любовь удовлетворена, мужчина начинает охладевать к предмету своих влечений. “Итак, – говорит Шопенгауэр, – благо целого рода – вот объект любви. В сравнении с этой задачей ничтожны личные стремления; гений рода охотно поступается всеми индивидуальными интересами, неукоснительно преследуя главную и единственную свою цель – поддержание рода, и среди смятений войны и неурядиц гражданской жизни, и во время чумы, и в тиши монастырей”. Это приводит Шопенгауэра к рассмотрению вопроса о моногамии и полигамии, причем он самым решительным образом – опять-таки в интересах рода – склоняется в пользу полигамии или, вернее сказать, тетрагамии (четверобрачия).
Высказывая свои, отчасти парадоксальные, отчасти даже расходящиеся с общепринятыми понятиями о нравственности, взгляды на брак, двоебрачие, многобрачие, Шопенгауэр выказывает, однако, решительное предпочтение безбрачию. Как бы для будущего посрамления тех, которые упрекали его учение в безнравственности, он выставляет добровольное девство единственным средством освобождения из мира греховности и бедствий. Останавливаясь на вопросе о том, где скорее – в брачной жизни или в безбрачии – достижимо то безмятежное существование, которое необходимо для людей умственного труда, для ученых, Шопенгауэр охотно ссылался на Картезия, Мальбранша, Спинозу, Лейбница и Канта, всю жизнь остававшихся холостяками. Он любил также повторять вместе с Петраркой: “Тот, кто ищет спокойствия, должен избегать женщин, – этого вечного источника споров и треволнений”. Он полагал, что мыслитель, по рассудочности своей натуры, мало доступен радостям и наслаждениям домашнего очага и что он рискует из-за несущественных и безразличных с его точки зрения мелочей поступиться своею независимостью, замкнутостью и мирными умственными самонаслаждениями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: