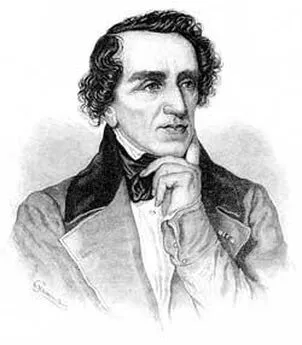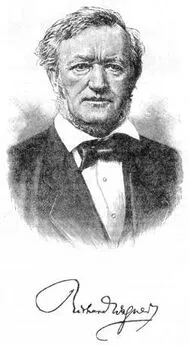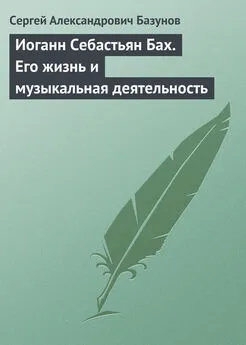Сергей Базунов - Александр Даргомыжский. Его жизнь и музыкальная деятельность
- Название:Александр Даргомыжский. Его жизнь и музыкальная деятельность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:3bd93a2a-1461-102c-96f3-af3a14b75ca4
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Базунов - Александр Даргомыжский. Его жизнь и музыкальная деятельность краткое содержание
Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.
Александр Даргомыжский. Его жизнь и музыкальная деятельность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Чтобы обстоятельно ответить на эти вопросы во всем их объеме, следовало бы предпринять детальный разбор оперы и рассмотреть в подробностях все отдельные номера ее, как это и сделал в свое время А. Н. Серов, сумев очень удачно выяснить весь смысл и значение произведения Даргомыжского. Но таким образом у него получилось десять обширных статей, к которым мы и отсылаем желающих познакомиться с оперою Даргомыжского ближайшим образом. Со своей же стороны мы остановим внимание читателя лишь на самых выдающихся особенностях оперы, там, где талант композитора проявился наиболее ярко и рельефно.
Разбирая «Русалку» с самой общей точки зрения, мы прежде всего видим, что в основу своей музыкальной обработки Даргомыжский положил, подобно Глинке, народное творчество. Но, исходя из тех же основных положений, что и Глинка, он подвинул дело, начатое Глинкою, далее, разработав материал народного музыкального творчества со стороны драматических его элементов, тогда как Глинка ограничился преимущественно элементами лирическими и отчасти эпическими. В этом смысле, то есть со стороны драматизма, наш композитор пошел гораздо далее Глинки, музыка которого с этой точки зрения значительно уступает музыке Даргомыжского вообще и образцам ее в «Русалке» в частности. Подобно тому как Даргомыжский уступал Глинке, например, в сфере фантастической (это сейчас же видно при сравнении «Русалки» с «Русланом» Глинки), так наш композитор оказывается особенно сильным везде, где только имеет дело с материалом драматическим, и многие места «Русалки» дают самые блестящие доказательства этой специальной особенности его таланта. Надо сказать, что эту специальную способность свою сам композитор сознавал очень ясно и утилизировал ее с обдуманной сознательностью. Это следует, например, из одного письма его к кн. Одоевскому, писанного задолго до окончания «Русалки». Сообщая о том, как подвигается его опера, он писал (3 июня 1853 года) следующее:
«Покуда вы в Выборге наслаждаетесь сельскими удовольствиями, я здесь тружусь над своею „Русалкою“. Что больше изучаю наши народные элементы, то больше открываю в них разнообразных сторон. Глинка, который до своих пор один дал русской музыке широкий размер, по-моему, затронул еще только одну ее сторону – сторону лирическую. Драма у него слишком заунывна, комическая сторона теряет национальность. Говорю о характере его музыки, потому что фактура у него везде превосходная. По силе и возможности я в „Русалке“ своей работаю над развитием наших драматических элементов. Счастлив буду, если успею в этом хотя в половину против Михаила Ивановича Глинки», и проч.
Но, говоря о драматических способностях Даргомыжского, отнюдь не следует ограничивать понятие «драматического» более тесным понятием собственно трагического элемента. Напротив, элемент комический свойствен таланту нашего композитора более, чем таланту любого другого русского композитора. Эта ценная особенность дарования, столь редкая именно в соединении с собственно драматическими (трагическими) свойствами таланта, проявилась в «Русалке» весьма рельефно и производит самое выгодное общее впечатление. К сказанному надо прибавить, что мотивы комического характера облечены у Даргомыжского всегда и везде в строго национальные, прямо русские формы. Ему нельзя, как Глинке, сделать упрек в том, что у него «комическая сторона теряет национальность». Напротив, в темах комических Даргомыжский оказывается русским более, чем когда-либо, и национальный характер его комических тем ясен часто до очевидности. Разбирая «Русалку» и отдавая дань уважения местам комической музыки, Серов придавал элементам комизма в таланте Даргомыжского такое большое значение, что выражал даже сожаление, зачем автор «Русалки» «не вздумает поскорее подарить русскому оперному репертуару оперу комическую». Ту же особенность таланта Даргомыжского отмечал и М. И. Глинка, также советовавший ему приняться за оперу комическую. Однако все эти пожелания остались невыполненными…
В подтверждение сказанного о драматических особенностях «Русалки» мы не делаем никаких конкретных указаний на отдельные места оперы, ибо драматизм широкой волной разлит по всему произведению и пронизывает его от начала до конца. Гораздо легче указать места комического характера. К числу их нужно отнести, например, комический элемент в партии Мельника (в первом действии), комические речитативы Свата (второе действие), подруги Княгини, Ольги (третье действие) и проч.
Таковы первые и главные свойства дарования нашего композитора. Его сферою были элементы драмы трагические и комические. Что же касается самих приемов и способов обработки этих элементов, какие были свойственны Даргомыжскому, то надо сказать, что если, с одной стороны, они и представляются весьма сложными и разнообразными, то, с другой, – все это разнообразие и многосложность могут быть сведены, в сущности, к одному-единственному приему. Прием этот состоит в постоянном, неуклонном стремлении художника к правде и в реальном воспроизведении этой правды средствами музыки. Первая точка зрения приводит к детальному разбору технических приемов композитора, и тогда критики «Русалки» говорят об «изящном и благородном рисунке мелодий оперы, о превосходной гармонической и контрапунктической их разработке», об «инструментовке, проникнутой вкусом и обдуманностью», наконец, об общей «оригинальности и свежести» музыки Даргомыжского. Другая же точка зрения – точка зрения общего впечатления, – оставляя в стороне технические способы, имеет в виду лишь результаты работы художника и подчеркивает испытываемое слушателем впечатление правды и реальности изображения. Отсутствие всего фальшивого, условного, отсутствие всяких ложных эффектов и на их месте лишь те законные эффекты, которые естественно вызываются смыслом текста; величайшее мастерство в музыкальной обработке и иллюстрации текста и всех его тончайших оттенков; в высшей степени типичная обрисовка средствами музыки драматических характеров, отдельных душевных движений, драматических положений и коллизий – вот элементы, из которых слагается упомянутое выше «впечатление правды и реальности изображения», отличающее произведение Даргомыжского.
В своем разборе «Русалки» Серов находит, между прочим, что эта опера отвечает всем требованиям «музыкальной драмы». Надо знать, что означает в устах именно Серова такая похвала; надо знать те обширные и серьезные требования, какие связывал он со своим представлением о музыкальной драме, чтобы оценить его похвальный отзыв по достоинству. Но при этом, однако, следует добавить, что Даргомыжский вовсе не разделял всех его теоретических взглядов и «Русалка» явилась вовсе не результатом каких-либо теоретически выработанных представлений о музыкальной драме, как это было за границей с произведениями Вагнера, а у нас – А. Н. Серова. Нет, великолепное произведение Даргомыжского, которое, по словам того же Серова, вполне удовлетворяет требованиям музыкальной драмы, явилось результатом непосредственного художественного чутья автора и отчасти традиции, идущей от Глинки. Любопытно также заметить, что композиторы – представители последующей реальной школы в России, вообще не ладившие с Вагнеро-Серовскими теориями музыкальной драмы, главою своей школы признают, после Глинки, именно Даргомыжского и его считают основателем всего русского реального направления, отвергая реализм Серовской музыкальной драмы. Но вопрос о последующих представителях реального направления уже выходит за пределы нашего очерка, и мы упоминаем о них лишь для того, чтобы отметить признанное значение Даргомыжского как главнейшего представителя русского реального направления.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: