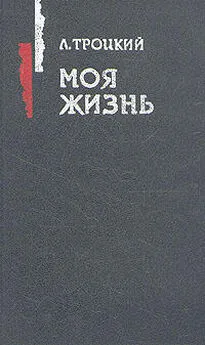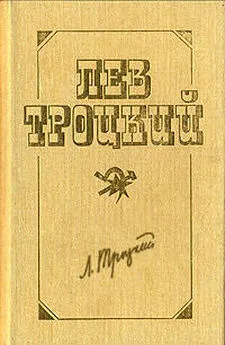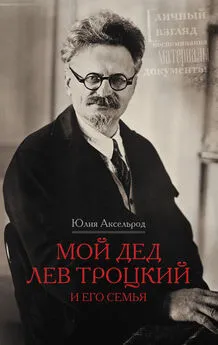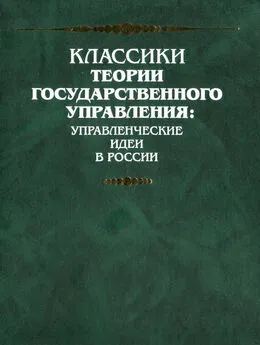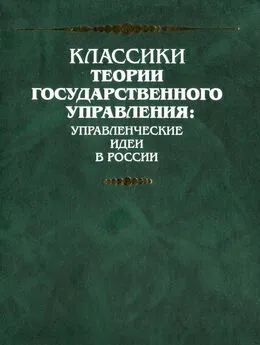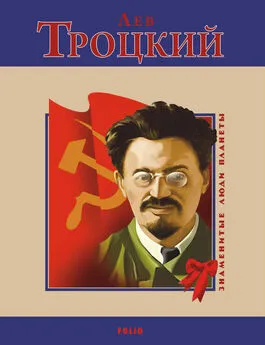Лев Троцкий - Моя жизнь
- Название:Моя жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Троцкий - Моя жизнь краткое содержание
Книга Льва Троцкого «Моя жизнь» – незаурядное литературное произведение, подводящее итог деятельности этого поистине выдающегося человека и политика в стране, которую он покинул в 1929 году. В ней представлен жизненный путь автора – от детства до высылки из СССР.
"По числу поворотов, неожиданностей, острых конфликтов, подъемов и спусков, – пишет Троцкий в предисловии, – можно сказать, что моя жизнь изобиловала приключениями… Между тем я не имею ничего общего с искателями приключений». Если вспомнить при этом, что сам Бернард Шоу называл Троцкого «королем памфлетистов», то станет ясно, что «опыт автобиографии» Троцкого – это яркое, увлекательное, драматичное повествование не только свидетеля, но и прямого «созидателя» истории XX века.
Моя жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Когда я получил возможность отвести глаза от Свияжска, я заметил, что кое-что изменилось в Европе: немецкая армия была в безвыходном положении.
Глава XXXIV. ПОЕЗД
Теперь надо сказать о так называемом «поезде Предреввоенсовета». Моя личная жизнь в течение самых напряженных годов революции была неразрывно связана с жизнью этого поезда. С другой стороны, поезд был неразрывно связан с жизнью Красной Армии. Поезд связывал фронт и тыл, разрешал на месте неотложные вопросы, просвещал, призывал, снабжал, карал и награждал.
Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой, злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади. Но армии все же не создаются страхом. Царская армия распалась не из-за недостатка репрессий. Пытаясь спасти ее восстановлением смертной казни, Керенский только добил ее. На пепелище великой войны большевики создали новую армию. Кто хоть немножко понимает язык истории, для того эти факты не нуждаются в пояснениях. Сильнейшим цементом новой армии были идеи Октябрьской революции. Поезд снабжал этим цементом фронты.
В Калужской губернии, Воронежской или Рязанской десятки тысяч молодых крестьян не являлись на первые советские призывы. Война шла далеко от их губерний, учет был плох, призывы не брались всерьез. Неявившихся называли дезертирами. Против неявки открыли серьезную борьбу. При военном комиссариате Рязани набралось таких «дезертиров» тысяч пятнадцать. Проезжая через Рязань, я решил посмотреть на них. Меня отговаривали: «Как бы чего не вышло». Но все обошлось как нельзя быть лучше. Из бараков их скликали: «Товарищи дезертиры, ступайте на митинг, товарищ Троцкий к вам приехал». Они выбегали возбужденные, шумные, любопытные, как школьники. Я воображал их похуже. Они воображали меня пострашнее. Меня в несколько минут окружила огромная распоясанная, недисциплинированная, но ничуть не враждебная братва. «Товарищи дезертиры» глядели на меня так, что, казалось, у многих выскочат глаза. Взобравшись на стол тут же на дворе, я говорил с ними часа полтора. Это была благодарнейшая аудитория. Я старался поднять их в их собственных глазах и под конец призвал их поднять руки в знак верности революции. На моих глазах их заразили новые идеи. Ими владел истинный энтузиазм. Они провожали меня до автомобиля, глядели во все глаза, но уже не испуганно, а восторженно, кричали во всю глотку и ни за что не хотели отлипнуть от меня. Я не без гордости узнавал потом, что важным воспитательным средством по отношению к ним служило напоминание: «А ты что обещал Троцкому?» Полки из рязанских «дезертиров» хорошо потом дрались на фронтах.
Я вспоминаю второй класс одесского реального училища св. Павла. Сорок мальчиков ничем особенно не отличались от сорока других мальчиков. Но когда Бюрнанд, с таинственным иксом на лбу, надзиратель Манер, надзиратель Вильгельм, инспектор Каминский и директор Шванебах изо всей силы ударили по более критической и смелой группе школьников, сейчас же подняли голову ябедники и завистливые тупицы – они повели за собою класс.
В каждом полку, в каждой роте имеются люди разного качества. Сознательные и самоотверженные составляют меньшинство. На другом полюсе – ничтожное меньшинство развращенных, шкурников или сознательных врагов. Между двумя меньшинствами – большая середина, неуверенно колеблющиеся. Развал получается тогда, когда лучшие гибнут или оттираются, шкурники или враги берут верх. Средние не знают в таких случаях, с кем идти, а в час опасности поддаются панике. 24 февраля 1919 г. я говорил в Колонном зале Москвы молодым командирам: «Дайте три тысячи дезертиров, назовите это полком, я им дам боевого командира, хорошего комиссара, подходящих батальонных, ротных, взводных – и три тысячи дезертиров в течение четырех недель дадут у нас, в революционной стране, превосходный полк… В самые последние недели, – добавил я, – мы снова проверили это на опыте Нарвского и Псковского участков фронта, где нам из обломков удалось создать прекрасные боевые части».
Два с половиной года, с короткими сравнительно перерывами, я прожил в железнодорожном вагоне, который раньше служил одному из министров путей сообщения. Вагон был хорошо оборудован с точки зрения министерского комфорта, но мало приспособлен для работы. Здесь я принимал являвшихся в пути с докладами, совещался с местными военными и гражданскими властями, разбирался в телеграфных донесениях, диктовал приказы и статьи. Отсюда же я совершал со своими сотрудниками большие поездки по фронту на автомобилях. В свободные часы я диктовал в вагоне свою книгу против Каутского и ряд других произведений. В те годы я, казалось, навсегда привык писать и размышлять под аккомпанемент пульмановских рессор и колес.
Поезд мой был организован спешно в ночь с 7 на 8 августа 1918 г. в Москве. Наутро я отправился в нем в Свияжск на чехословацкий фронт. Поезд в дальнейшем непрерывно перестраивался, усложнялся, совершенствовался. Уже в 1918 г. он представлял из себя летучий аппарат управления. В поезде работали: секретариат, типография, телеграфная станция, радио, электрическая станция, библиотека, гараж и баня.
Поезд был так тяжел, что шел с двумя паровозами. Потом пришлось разбить его на два поезда. Когда обстоятельства вынуждали дольше стоять на каком-нибудь участке фронта, один из паровозов выполнял обязанности курьера. Другой всегда стоял под парами. Фронт был подвижный, и с ним шутить нельзя было.
У меня нет под руками истории поезда. Она хранится где-то в архивах военного ведомства. В свое время ее тщательно разработали мои молодые сотрудники. Диаграмма передвижений поезда расчерчена была для выставки гражданской войны и собирала вокруг себя, как сообщали газеты, много посетителей; затем перешла в музей гражданской войны. Теперь она где-нибудь спрятана в укромном месте, с сотнями, тысячами других экспонатов: плакатов, воззваний, приказов, знамен, фотографий, кинематографических лент, книг и речей, отражавших важнейшие моменты гражданской войны и так или иначе связанных с моим участием в ней.
Военное издательство успело в течение 1922–1924 гг., т. е. до разгромов оппозиции, выпустить в пяти томах мои работы, относящиеся к армии и гражданской войне. История поезда не вошла в них. Орбиту его передвижений я мог бы сейчас лишь отчасти восстановить по пометкам под передовицами поездной газеты «В пути»: Самара, Челябинск, Вятка, Петроград, Балашов, Смоленск, снова Самара, Ростов, Новочеркасск, Киев, Житомир и т. д. без конца. У меня нет под руками даже точной цифры общего пробега поезда за время гражданской войны. Одно из пояснительных примечаний к моим военным работам называет 36 рейсов, общим протяжением свыше 105 тысяч километров. Один из моих былых спутников пишет мне, ссылаясь на свою память, будто мы за три года пять с половиною раз опоясали земной шар, т. е. дает цифру в два раза большую. Сюда не входят десятки тысяч километров на автомобилях, в сторону от железной дороги и в глубь фронта. Так как поезд направлялся всегда в наиболее критические пункты, то схема его поездок, нанесенная на карту, давала довольно точную и в то же время наглядную картину относительной важности разных фронтов. Больше всего поездок пришлось на 1920 г., т. е. на последний год войны. Преобладающее число поездок выпало на Южный фронт, который все время был самым упорным, самым длительным и самым опасным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: