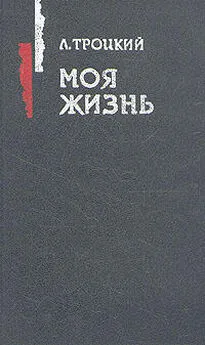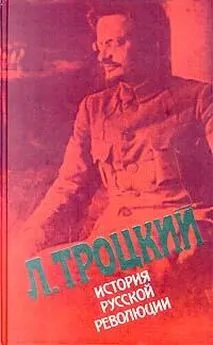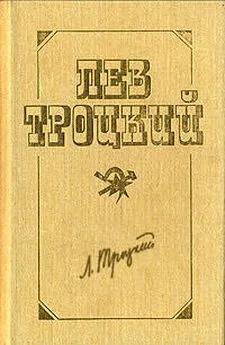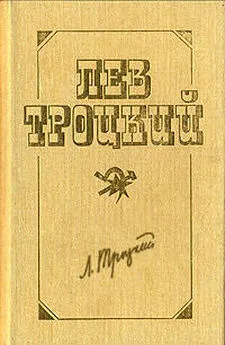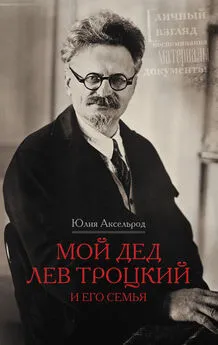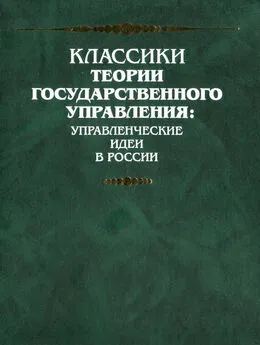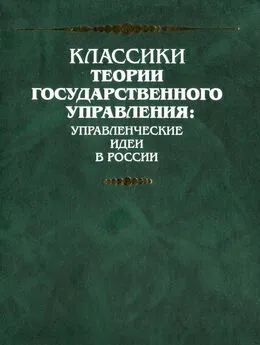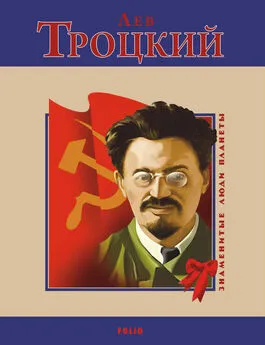Лев Троцкий - Моя жизнь
- Название:Моя жизнь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Троцкий - Моя жизнь краткое содержание
Книга Льва Троцкого «Моя жизнь» – незаурядное литературное произведение, подводящее итог деятельности этого поистине выдающегося человека и политика в стране, которую он покинул в 1929 году. В ней представлен жизненный путь автора – от детства до высылки из СССР.
"По числу поворотов, неожиданностей, острых конфликтов, подъемов и спусков, – пишет Троцкий в предисловии, – можно сказать, что моя жизнь изобиловала приключениями… Между тем я не имею ничего общего с искателями приключений». Если вспомнить при этом, что сам Бернард Шоу называл Троцкого «королем памфлетистов», то станет ясно, что «опыт автобиографии» Троцкого – это яркое, увлекательное, драматичное повествование не только свидетеля, но и прямого «созидателя» истории XX века.
Моя жизнь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Глава VIII. МОИ ПЕРВЫЕ ТЮРЬМЫ
При общей облаве в январе 1898 г. я был арестован не в Николаеве, а в имении крупного помещика Соковника, куда Швиговский перешел на службу садовником. Я заехал к нему по пути из Яновки в Николаев, с большим портфелем рукописей, рисунков, писем и всякого вообще нелегального материала. На ночь Швиговский спрятал опасный пакет в яму с капустой, а на рассвете, отправляясь сажать лес, вынул папку из ямы, чтоб передать мне для работы. В это время как раз и нагрянули жандармы. Швиговский успел в передней бросить пакет за кадку с водой. Экономке, которая под надзором жандармов кормила нас обедом, Швиговский успел шепнуть, чтоб она унесла папку и спрятала получше. Старуха не нашла ничего другого, как зарыть папку в саду в снег. Мы твердо считали, что документы не попадут в руки врага. Наступила весна, снег стаял, выросла трава и снова скрыла папку, разбухшую от весенней воды. Мы сидели в тюрьме. Наступило лето. Рабочий косил в помещичьем саду траву, два его мальчика, игравшие тут же, наткнулись на пакет и передали отцу, тот снес его в барский дом, а перепуганный насмерть либеральный помещик немедленно свез бумаги в Николаев и сдал их жандармскому полковнику. Почерки рукописей послужили уликой против нескольких лиц.
Старая николаевская тюрьма совсем не была приспособлена для политических, да еще в таком числе. Я попал в одну камеру с молодым переплетчиком Явичем. Камера была очень велика, человек на тридцать, без всякой мебели и еле отапливалась. В двери был большой квадратный вырез в коридор, открытый прямо на двор. Стояли январские морозы. На ночь нам клали на пол соломенник, а в шесть часов утра выносили его. Подниматься и одеваться было мукой. В пальто, в шапках и калошах мы садились с Явичем плечо к плечу на пол и, упершись спинами в чуть теплую печь, грезили и дремали час-два. Это было, пожалуй, самое счастливое время дня. На допрос нас не звали. Мы бегали из угла в угол, чтоб согреться, предавались воспоминаниям, догадкам и надеждам. Я стал заниматься с Явичем науками. Так прошло недели три. Потом наступила перемена. Меня вызвали в тюремную контору с вещами и передали двум рослым жандармам, которые перевезли меня на лошадях в херсонскую тюрьму. Это было еще более старое здание. Камера была просторная, но с узким, наглухо заделанным окном в тяжелом железном переплете, едва пропускавшем свет. Одиночество было полное, абсолютное, беспросветное. Ни прогулок, ни соседей. Из заделанного позимнему окна ничего не было видно. Передач с воли я не получал. У меня не было ни чаю, ни сахару. Арестантскую похлебку давали раз в день, в обед. Паек ржаного хлеба с солью служил мне завтраком и ужином. Я вел с собой длинные диалоги о том, имею ли я право увеличить утреннюю порцию за счет вечерней. Утренние доводы казались вечером бессмысленными и преступными. За ужином я ненавидел того, который завтракал. У меня не было смены белья. Три месяца я носил одну и ту же пару. У меня не было мыла. Тюремные паразиты ели меня заживо. Я давал себе урок: пройти по диагонали тысячу сто одиннадцать шагов. Мне шел девятнадцатый год. Изоляция была абсолютная, какой я позже не знал нигде и никогда, хотя побывал в двух десятках тюрем. У меня не было ни одной книги, ни карандаша, ни бумаги. Камера не проветривалась. О том, какой в ней воздух, я судил по гримасе помощника начальника, когда он входил ко мне. Я откусывал кусочек тюремного хлеба, ходил по диагонали и сочинял стихи. Народническую «дубинушку» я переделал на пролетарскую «машинушку». Я сочинил революционную «камаринскую». Весьма посредственного качества, стихи эти позже приобрели большую популярность. Они перепечатываются в песенниках и сейчас. Но иногда меня грызла жестокая тоска одиночества. Тогда я преувеличенно твердо отсчитывал стоптанными подметками тысячу сто одиннадцать шагов. К концу третьего месяца, когда тюремный хлеб, мешок, набитый соломой, и вши стали для меня незыблемыми элементами жизни, как день и ночь, надзиратели вечером внесли ко мне гору предметов из другого, фантастического мира: свежее белье, одеяло, подушку, белый хлеб, чай, сахар, ветчину, консервы, апельсины, яблоки, да, большие ярко окрашенные апельсины… И сейчас, через 31 год, я не без волнения перечисляю эти замечательные предметы и уличаю себя в том, что упустил баночку варенья, мыло и гребешок. «Это вам мать доставила», – сказал мне помощник. И как ни плохо я тогда читал в человеческих душах, но по тону его понял сразу, что он получил взятку.
Скоро меня перевезли на пароходе в Одессу и там поместили в одиночную тюрьму, построенную за несколько лет перед тем, по последнему слову техники. После Николаева и Херсона одесская одиночка показалась мне идеальным учреждением. Перестукиванья, записочки, «телефон», прямой крик через окна – словом, служба связи действовала почти непрерывно. Я выстукивал соседям свои херсонские стихи, они снабжали меня в ответ новостями. От Швиговского я успел через окно узнать о полученном жандармами пакете с моими бумагами и потому без труда расстроил план подполковника Дремлюги, пытавшегося устроить мне ловушку. Нужно сказать, что в тот период мы еще не начали отказываться от дачи показаний, как несколько лет спустя.
Тюрьма была переполнена после всероссийского весеннего провала. 1 марта 1898 г., во время моего сиденья в херсонской тюрьме, собрался в Минске учредительный съезд социал-демократической партии. Он состоял всего из девяти человек и сейчас же потонул в волне арестов. Через несколько месяцев о нем уже не говорили. Но позднейшие последствия его сказались на истории всего человечества… Принятый манифест рисовал такую перспективу политической борьбы: «…чем дальше на восток Европы, тем, в политическом отношении, трусливее и подлее становится буржуазия и тем большие культурные и политические задачи выпадают на долю пролетариата». Не лишен исторической пикантности тот факт, что автором манифеста был небезызвестный Петр Струве, ставший позже лидером либерализма, а еще позже публицистом церковной и монархической реакции.
Первые месяцы пребывания в одесской тюрьме я не получал книг извне и вынужден был довольствоваться тюремной библиотекой. Она состояла главным образом из консервативно-исторических и религиозных журналов за долгий ряд лет. Я штудировал их с неутомимой жадностью. Я знал все секты и все ереси старого и нового времени, все преимущества православного богослужения, самые лучшие доводы против католицизма, протестантства, толстовства, дарвинизма. Христианское сознание, читал я в «Православном обозрении», любит истинные науки, и в том числе естествознание, как умственную родственницу веры. Чудо с ослицей Валаама, вступившей в дискуссию с пророком, не может быть опровергнуто и с естественнонаучной точки зрения: «Ведь существуют же говорящие попугаи и даже канарейки». Этот довод архиепископа Никанора занимал меня целыми днями и иногда снился даже по ночам. Исследования о бесах или демонах, об их князьях, дьяволе и об их темном бесовском царстве каждый раз заново поражали и в своем роде восхищали молодую рационалистическую мысль кодифицированной глупостью тысячелетий. Пространное изыскание о рае, об его внутреннем устройстве и о месте нахождения заканчивалось меланхолической нотой: «Точных указаний о месте нахождения рая нет». Я повторял эту фразу за обедом, за чаем и на прогулке. Насчет географической долготы райских блаженств указаний нет. С жандармским унтером Миклиным я затевал при каждом подходящем случае богословские препирательства. Миклин был жаден, лжив, злобен, начитан в священных книгах и благочестив до крайности. Перебегая с ключами по звонким железным лестницам, он мурлыкал церковные напевы. «За одно, за одно единственное слово христородица, вместо богородиц а, – внушал мне Миклин, – у еретика Ария живот лопнул». «А почему теперь у еретиков животы в сохранности?» – «Теперь, теперь… – отвечал обиженно Миклин, – теперь другие времена».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: