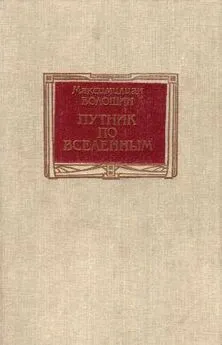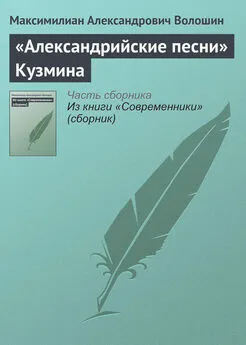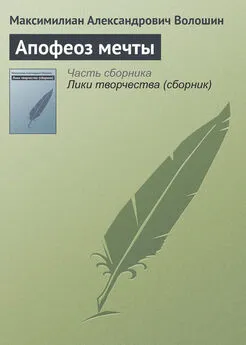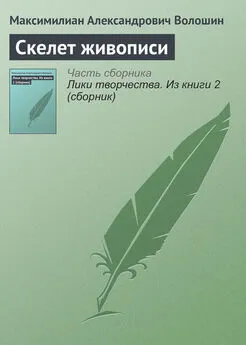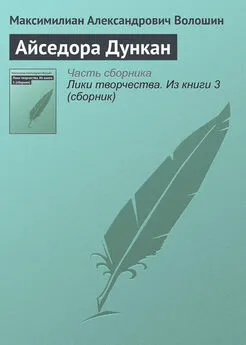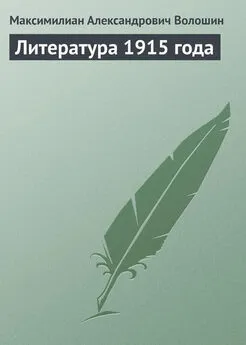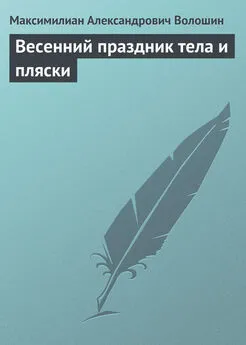Максимилиан Волошин - Путник по вселенным
- Название:Путник по вселенным
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1990
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максимилиан Волошин - Путник по вселенным краткое содержание
Книга известного советского поэта, переводчика, художника, литературного и художественного критика Максимилиана Волошина (1877 – 1932) включает автобиографическую прозу, очерки о современниках и воспоминания.
Значительная часть материалов публикуется впервые.
В комментарии откорректированы легенды и домыслы, окружающие и по сей день личность Волошина.
Издание иллюстрировано редкими фотографиями.
Путник по вселенным - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Другой, с бритым, передергивающимся лицом и с неожиданными вскриками ночной птицы, носится среди толпы с большой книгой, раскрывает ее перед носом и тыкает пальцем в пророчества Нострадамуса {1}.
Маскарад или сумасшедший дом?
Маскарады, музыка, танцы запрещены в Париже на время войны.
Это художественная «кантина» на Монпарнасе.
Так во время войны стали называться дешевые рестораны, устроенные в некоторых мастерских художников.
После обеда, так как кафе запираются в девять, художники остаются здесь, чтобы провести вечер.
В каждом городе есть свои солнечные сплетения и нервные узлы. Положивши руку на них, чувствуешь напряженное биение духовной жизни и пульсацию токов, из них лучащихся. Париж богат такими средоточьями. Его творческие вихри затягивают чужестранца, причащая его своему рабочему ритму. Эти сплетенья можно почувствовать и в Национальной библиотеке, и в Лувре, и в «College de France», и в библиотеках Латинского квартала, и в академиях Монпарнаса.
Одним из самых страшных симптомов, говоривших о духовном опустошении, произведенном войной, было то, что жизнь этих «солнечных сплетений» иссякла.
Внешне это не бросалось в глаза, но душа не чувствовала пульса, горячей волны крови. Она испытывала жуткое головокружение, встречая неожиданную пустоту именно там, где привыкла находить опору и оправдание. Эта пустота говорила о полном отливе крови от мозга, о духовном обмороке страны. <���…>
Но ни один из кварталов Парижа не производит во время войны впечатлений большего душевного запустения, чем Монпарнас. Внешне он изменился, быть может, меньше других: он оживлен, он люден. «Академии» переполнены. Но нигде больше, чем на этом перекрестке бульваров Монпарнаса и Распайля, не чувствуется запустения великого города, нигде отлив духа не обнажил более трагически затягивающего ила на дне каналов. На этих улицах кипело и вырастало то поколение французского искусства, которое теперь истреблено войной, и видимость жизни, сообщаемая этому кварталу присутствием иностранцев, зияет всей огромной пустотой, оставленной по себе этим поколением, хирургически изъятым из европейской жизни.
Последние книги поэта Ильи Эренбурга – «Стихи о Канунах» {2}, «Повесть о жизни некоей Наденьки и о вещих знамениях, явленных ей», «Избранные переводы Франсуа Вийона» – возникли в этом запустении Монпарнаса, в духовном обнажении Парижа времен Великой войны. Даже переводы <���из> Франсуа Вийона (Виллона), прекрасные в своей субъективности, не менее, чем оригинальные стихи Эренбурга, говорят об эпохе, в которую они были сделаны.
Исступленные и мучительные книги, местами темные до полной непонятности, местами судорожно-искаженные болью и жалостью, местами подымающиеся до пророческих прозрений и глубоко человечной простоты. Книги, изуродованные цензурными ножницами и пестрящие многоточиями. Книги большой веры и большого кощунства. К ним почти невозможно относиться как к произведениям искусства, хотя в них есть и высокие поэтические достижения. Это – лирический документ. И их надо принимать, как таковой. В них меньше, чем надо, литературы, в них больше исповеди, чем возможно принять от поэта…
Я не могу себе представить Монпарнас времен войны без фигуры Эренбурга. Его внешний облик как нельзя более подходит к общему характеру духовного запустения. С болезненным, плохо выбритым лицом, с большими, нависшими, неуловимо косящими глазами, отяжелелыми семитическими губами, с очень длинными и очень прямыми полосами, свисающими несуразными космами, в широкополой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, сгорбленный, с плечами и ногами, ввернутыми внутрь, в синей куртке, посыпанной пылью, перхотью и табачным пеплом, имеющий вид человека, «которым только что вымыли пол», Эренбург настолько «левобережен» и «монпарнасен», что одно его появление в других кварталах Парижа вызывает смуту и волнение прохожих.
Такое впечатление должны были производить древние цинические философы на улицах Афин и христианские отшельники на улицах Александрии. В нем есть, конечно, и то, и другое.
Прихотливой и нелепой, чисто русской судьбой кинутый почти ребенком, как политический эмигрант, на многодорожье мирового города, он, несмотря на свою мо<���ло>дость, прошел уже сложный поэтический путь {3}. За ним уже целый ряд книг, из которых каждая по-своему интересна и каждая, как лирическое устремление, отрицает все предыдущие. Его путь идет резкими зигзагами, неожиданными скачками, и за него нельзя поручиться, что он на следующем повороте не прорвет орбиту поэзии и не провалится в мир религиозных падений и взлетов, для судорог, уже молчаливых.
Он выступил в 1910 году, как крайний эстет, книжкой стихов, сразу искусных, но безвкусных и с явным уклоном в сторону эстетического кощунства. Книга имела несомненный успех у критики. В следующих сборниках стихов: «Я живу», «Одуванчики» «Будни» {4}– Эренбург делал зигзаги между эстетством, лирической идиллией и натуралистическим цинизмом. Определяющими моментами этих книг была ненависть к Парижу и мечта об Италии.
Очень большое и творчески благотворное влияние имел на него Франсис Жамм {5}.
Книга «Детское», отмеченная его знаком, является самой гармоничной и трогательной из книг Эренбурга. Кроме того, Эренбург перевел книгу стихов Жамма и составил хрестоматию французских поэтов за последние сорок лет, в своих переводах, не считая еще не опубликованных им переводов поэтов «Плеяды» и XVIII века, что указывает, как творчески переживает он культуру Франции и как подробно любит ее, ненавидя.
«Стихи о Канунах» открываются словами из Апокалипсиса…<���…> Основная идея Эренбурга, проходящая через всю книгу, это то, что земная жизнь и есть настоящий, подлинный ад и что «всякий, кто жизнь отработал, – в раю». Проникнутый христианскими символами и образами, он в каждой строке остается исполненным глубоко иудейского, непримиренного духа. Богоборчество – один из основных родников его поэзии. Он не может принять изначальной божественной несправедливости, вышнего каприза, который формулируется для него в библейских словах: «Иакова я возлюбил, Исава возненавидел». <���…> И стихи Эренбурга, проникнутые духом «Плача Иеремии» {6}, могут служить психологическим свидетельством великого духовного запустения Парижа первых лет европейской катастрофы.
Александр Бенуа
Изо всех автопортретов художников – один неотступнее других остается в глазах: это портрет Шардена {1}, на котором он написал себя в очках, с головой, повязанной платком, и с козырьком зеленой саржи над глазами.
В нем останавливает внимание не столько это причудливое и остроумно-практичное снаряжение для живописной работы (недаром Сезанн говаривал об этом козырьке: «О, он был себе на уме – Шарден»), сколько испытующий, пристальный взгляд, которым художник вглядывается в стоящую перед ним натуру – в данном случае в самого себя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: