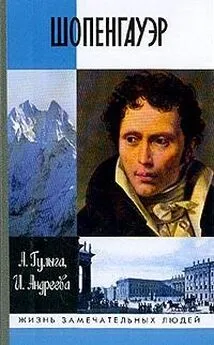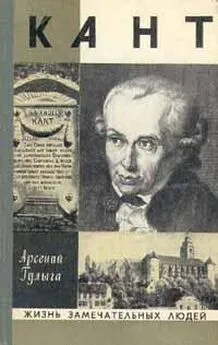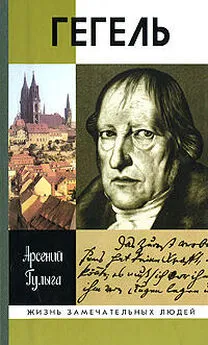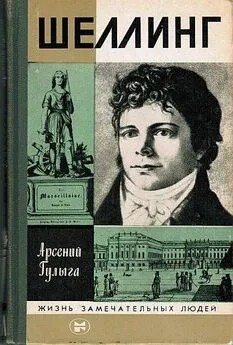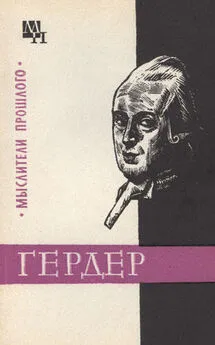Арсений Гулыга - Шопенгауэр
- Название:Шопенгауэр
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02551-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Арсений Гулыга - Шопенгауэр краткое содержание
Это первая в нашей стране подробная биография немецкого философа Артура Шопенгауэра, современника и соперника Гегеля, собеседника Гете, свидетеля Наполеоновских войн и революций. Судьба его учения складывалась не просто. Его не признавали при жизни, а в нашей стране в советское время его имя упоминалось лишь в негативном смысле, сопровождаемое упреками в субъективизме, пессимизме, иррационализме, волюнтаризме, реакционности, враждебности к революционным преобразованиям мира и прочих смертных грехах.
Этот одинокий угрюмый человек, считавший оптимизм «гнусным воззрением», неотступно думавший о человеческом счастье и изучавший восточную философию, создал собственное учение, в котором человек и природа едины, и обогатил человечество рядом замечательных догадок, далеко опередивших его время.
Биография Шопенгауэра — последняя работа, которую начал писать для «ЖЗЛ» Арсений Владимирович Гулыга (автор биографий Канта, Гегеля, Шеллинга) и которую завершила его супруга и соавтор Искра Степановна Андреева.
Шопенгауэр - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Из всего этого следует, что в сфере закона причинности нет места субстанции, первопричине, или конечной причине. Мы видели, как яростно обрушивался мыслитель на сторонников космологического, а заодно онтологического и физико-теологического доказательств бытия Божия. Он не устает утверждать, как закон основания-становления (он же — закон причинности) необходимо ведет к мысли, которая уничтожает само существование этого закона и объявляет его недействительным, ибо первопричина (абсолют) достигается, только поднимаясь от следствия к основанию через какой угодно длинный ряд; «остановиться же на ней нельзя, не уничтожив закон основания» (79. С. 34).
Итак, внешняя реальность познается чувствами и рассудком, познанное же разумом есть истина, то есть суждение, имеющее основание, которое составляет второй класс объектов для субъекта. Шопенгауэр, как мы уже знаем, называет его законом достаточного основания познания. Он гласит: «Для того чтобы суждение выражало познание, оно должно иметь достаточное основание, и в силу этого свойства оно получает предикат истинное» (79. С. 83).
Этот вид закона имеет дело не с созерцанием, а с понятиями, то есть с абстрактными представлениями (которые, однако, выведены из созерцания). Это как бы вторая ступень познания. Поэтому совокупное содержание понятий, выражающее свойства и характеристики множества отдельных вещей, Шопенгауэр (не в силах расстаться с понятием представления) считает даже возможным определять как «представления из представлений» (79. С. 78) или как «общие» представления. Самые общие понятия, лишенные созерцания, поднятые на высший уровень абстракции, настолько опустошены в своей содержательности, что в конце концов «оказываются лишь легкой оболочкой». Таковы, например, понятия бытия, сущности, вещи и т.п. В глазах Шопенгауэра эти последние немногого стоят.
Отчетливо мыслимое и высказанное в языке соотношение понятий, выраженное в суждениях, Шопенгауэр разделяет на четыре вида: 1) логическая истинность суждения, основанием которого служит другое суждение, а его истинность является формальной; 2) эмпирическая истинность, суждение которой опосредовано чувствами и основано на опыте; в ней выражается непосредственная связь между рассудком и разумом; 3) трансцендентальная истинность, основанием которой является синтетическое суждение априори, основанное не только на опыте, но и на условиях его возможности, которые заложены в нас; 4) металогическая истинность суждения, основанием которой являются заложенные в разуме формальные условия мышления, познаваемые путем самоисследования разума. Очевидно, что данный класс общих представлений доступен познанию не интуитивному, непосредственному, а лишь дискурсивному, рефлексивному, связанному со словами. Эта познавательная способность представлена человеческим разумом, «который испокон веку прославлялся как привилегия человека» (79. С. 87).
Третий класс закона — математическое познание образует формальную часть полных представлений-созерцаний (данных нам априори) форм внутреннего и внешнего чувства, то есть пространства и времени. Пространственная последовательность обусловливает существование геометрии, а временная — существование арифметики и алгебры. От первого класса они отличаются тем, что там пространство и время воспринимаются в связи с материей; здесь же они являются чистым созерцанием, основанным на априорной мудрости, то есть результатом чистой деятельности рассудка, чуждой созерцанию эмпирическому. Названный законом основания бытия, этот класс представлений, по Шопенгауэру, тесно взаимодействует (так же, как, впрочем, и различается), не только с основанием причинности (становления), но и с основанием рассудочного познания.
Наконец, четвертый вид закона достаточного основания имеет наибольшее значение: мотивация человека, выступающего как субъект воления, которое дано только внутреннему чувству, обнаруживается лишь во времени, а не в пространстве. Субъект познает здесь себя как водящего, а не как познающего. Познание познания не существует, ибо для этого нужно было бы, чтобы субъект отделился от познания и все-таки познавал познание, что невозможно. Поэтому субъект познания никогда не может стать представлением или объектом. Шопенгауэр подкрепляет это свое рассуждение изречением из священных Упанишад: «Его нельзя видеть: оно все видит; и его нельзя слышать: оно все слышит; его нельзя знать: оно все знает; и его нельзя постигнуть: оно все постигает. И сверх того, что оно — существо видящее, знающее, слышащее и постигающее, оно не более чем ничто» (79. С. 109, 615).
Тождество субъекта воления и познающего субъекта, объединенное в Я, которое включает в себя и обозначает то и другое, — это «узел мира», и «поэтому оно необъяснимо»; это тождество дано нам непосредственно. Шопенгауэр определяет обоснование событий и поступков как «волящее основание действия». Волевые решения, мотивацию во втором издании своего труда Шопенгауэр назовет «каузальностью, видимой изнутри» (79. С. 111–112).
Как же все-таки воля влияет на познание? Принято считать, что в учении о волении как мотивации Шопенгауэр иррационален. Но это не так. Воля заставляет сознание направлять в процессе познания внимание на те мысли и представления, которые некогда были у субъекта. Особое значение при этом имеет память, понимаемая не как хранилище, а как своего рода ткань, которую можно благодаря воле сложить и повернуть многообразными способами. Таким образом память о каком-то представлении восстанавливает его в нашем сознании всякий раз в новом ракурсе или обличье. Особое значение при этом имеют созерцаемые представления, а также способность к запоминанию, как и упражнение в памяти. Кроме того, воля в процессе познания руководит ассоциацией идей, когда закон достаточного основания в его четырех формах применяется к субъективному ходу мыслей, то есть к наличию представлений в сознании. Только непосредственность воли, которая почти не осознается, создает иллюзию, будто в наше сознание нечто проникло без всякой связи с чем-то другим.
Каковы результаты проведенного мыслителем исследования познавательных возможностей и способностей человека? Прежде всего бросается в глаза, что он прочно усвоил уроки классической немецкой философии, особенно Канта. Но не как прилежный ученик, повторяющий своего учителя, а как мыслитель, призванный сказать новое слово. Познание невозможно без участия чувства, рассудка и разума, которые образуют ступени восхождения к знанию. Но при этом рассудок в учении о познании у Шопенгауэра получает иные измерения, чем у Канта, — он воплощается в интеллектуальном созерцании, а разум теряет регулятивную функцию, как думал Кант, и действует в образовании понятий. Далее Шопенгауэр принимает кантовское разделение мира на чувственно воспринимаемый и мир вещей самих по себе, и корни закона достаточного основания демонстрируют нам внутренний зародыш «зависимости, относительности, бренности и конечности нашего познания, пребывающего в границах чувственности, рассудка и разума, деления на субъект и объект», имеющих значение только для мира явлений, то есть для чувственно воспринимаемого мира, и неприменимых к миру вещей самих по себе. Нельзя говорить об основании вообще, его не существует. Закон достаточного основания нельзя обращать к миру вообще, к миру, запредельному нашим чувствам, рассудку и разуму. Поэтому нельзя сказать: «Мир и все вещи в нем существуют только посредством другого» (79. С. 122) — это положение и есть космологическое доказательство бытия Бога, которое Шопенгауэр решительно отвергает.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: