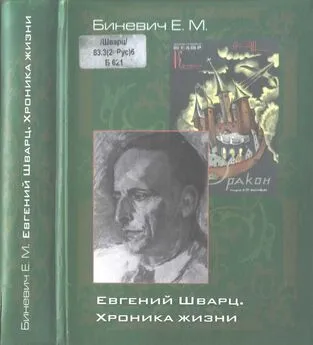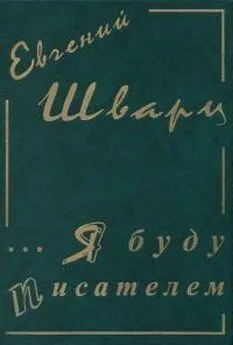Евгений Шварц - Живу беспокойно... (из дневников)
- Название:Живу беспокойно... (из дневников)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Шварц - Живу беспокойно... (из дневников) краткое содержание
Дневник - чисто условное жанровое определение прозы известного советского драматурга Евгения Шварца (1896 - 1958). Перед нами своеобразная автобиография, носящая глубоко исповедальный характер. В ней и мысли о каждодневной работе писателя, и события, свидетелем которых он был, начиная с 900-х годов и до конца жизни, и литературные портреты многих современников: М. Зощенко, В. Каверина, М. Слонимского, Ю. Тынянова, К. Чуковскогои др., написанные правдиво, лаконично, ярко.
Живу беспокойно... (из дневников) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
14 июня
Я перечитал свое описание военного домоуправления и огорчился. Как только перенесешь явление из одной категории в другую – оно все равно что исчезает. Начинаешь рассказывать и поневоле отбираешь. И вносишь правильность. А главное в том времени – затуманенная, унылая бытовая бессмыслица, доведенная до пределов вселенских. От убийств, смертей, трупов, выброшенных на середину площади из подворотни, не становилась блокада объяснимей. Люди, приезжающие с фронта, терялись в этой непереставаемо терзаемой массе города. Что можно тут сделать, где тут твое место? Ты знаешь свое место во время бомбежки. Но какой смысл в том, что стоишь на чердаке, где к зиме заколотили все слуховые окошки, ничего не видишь, ничего не делаешь – терпишь. А других, потерпевших до конца, везут на детских салазках в общую могилу. И если сейчас это звучит печально, то в те дни и не оглядывались люди на подобное погребальное шествие. Все может войти в быт. И это было страшнее всего. Все может войти в быт, в будни. Все. И я, и актеры Театра комедии в Кирове с удивлением поняли, что невозможно объяснить актерам БДТ, уехавшим в августе из Ленинграда, что такое Ленинград в блокаду. Мы сами не знали, как это рассказывать. И поэтому те же лестницы, та же знакомая ненужно высокая комната домоуправления с широкими окнами во двор совсем не напоминают блокадного времени. Даже сирена пароходика на Неве, поднимающая иной раз животный и вместе машинный вой, отчетливо слышный ночами, не вызывает воспоминаний о тревоге. Тогда война и блокада с непонятной простотой вошли в быт, а теперь начисто исчезли.
Теперь бываю я в жакте, когда приходится продлить, точнее, получить новый паспорт по истечении срока. Да и то в последний раз выдали мне паспорт бессрочный. Был я там на елке – читал детям. И ни разу не вспомнил прежнего военного домоуправления... Мои связисты, подумать страшно, погибли почти все. Крокодил умер с голоду и многие другие. Иные были убиты в боях. Однажды мы шли с Катюшей двором в 1946 году. Рослый и красивый парень в военной форме без погон поздоровался с нами застенчиво. Это был Колька, самый маленький и разбитной из связистов, тот, что чаще всех прибегал и спрашивал: нет ли работки.
16 июня
Следующая фамилия Зощенко Михаил Михайлович.
Это имя выходит за пределы того, что я тут рассказываю, того, что могу рассказать. Это уже история. Правда, характеры нигде так не сказывались, как в этой истории, но тут уж ничего не поделаешь. История есть история. И некоторых участников ее я осуждаю в меру. Они действовали в силу исторической необходимости. Но я ненавижу тех добровольцев, что до сих пор бьют лежачего, утверждая этим свое положение на той ступеньке, куда с грехом, нет, со всеми смертными грехами пополам, удалось им взгромоздиться.
19 июня
Следующая фамилия Зарубина Ирина Петровна.
Это артистка настоящая, не умственная, а от природы. Великолепная русская речь, голос, музыкальность.
24 июня
Сегодня – памятный день. Пять лет назад начал я вести эти записи и вел их ежедневно, кроме тех случаев, когда уезжал или мне уж очень мешало что-нибудь. Но и тут я записывал за пропущенные дни, платил долг. Постепенно я привык к этому виду работы. Стал возить тетрадки с собой, когда уезжал, чтобы не прекращать, не нарушать непрерывности записей. Даже в мучительные дни съезда [475]я продолжал писать ежедневно, и предыдущая моя тетрадь в светло-серовато-голубой обложке куплена была на съезде в канцелярском киоске, в маленькой шумной комнатке, где стучали молотки – заколачивали в почтовом отделении посылки, а телефонные кабины были заняты все до единой делегатами, которые на разных языках во весь голос переговаривались с Грузией, с Азербайджаном, с Сыктывкаром, с Казанью. Я, ошеломленный жарой, громоздкостью происходящего, оскорбленный силой моей уязвимости (я считал, что стал сильней, оказалось же, что я обидчив по-старому), покупая тетрадь, не верил, что доведу ее до конца. И довел. Мне почему-то очень хотелось непременно довести записи до пятилетней годовщины, но тогда срок этот представлялся недостижимым. Но вот он приблизился. А я заболел. И когда меня уложили по поводу инфаркта, я продолжал писать. И все считал: пять лет без двух недель, пять лет без пяти дней. И вот сегодня ровно пять лет. Ни разу в жизни я не работал так систематично. К чему это привело? Ну, все-таки. Я начал свободнее чувствовать себя в области, где прежде терялся, – в прозе. Чувство глухонемоты иногда исчезает. Иногда чувствую, что приближаюсь к натуре на тон (семья Грековых, Жеймо). За эти пять лет написал я, кроме этих тетрадок, три сценария, из которых один не принят, три пьесы – две получились не ахти [476]. Обозрение для Райкина (с Гузыниным) [477]. Кончил «Медведя» (в прошлом году) [478]. Сделал из своих записей несколько рассказов (о Житкове и др.) [479]. Одно время что-то терял (с драматургией). Сейчас лучше. Пятилетие!
26 июня
Следующая фамилия Зандерлинг Курт Игнатьевич.
Сутулый, длиннолицый. Нос горбатый и чуть приплюснутый вместе с тем. Большеротый. Общее выражение – серьезное. И что-то непреодолимо немецкое начисто снимает то, что есть семитического в его чертах. Тоненькая, сутулая, высокая, прилежная фигурка. Что-то, может быть, от гелертера [480]. Вот привезли свежий хлеб. Дачники выстроились в очередь. Курт Игнатьевич, углубившись в чтение, двигается к цели.
27 июня
«Что вы читаете, Курт Игнатьевич?» Он предлагает мне взять эту книжечку почитать. Я заглядываю и убеждаюсь с почтением и завистью, что мне это, увы, недоступно. Это изданная малым форматом, переплетенная в красный сафьян партитура Третьей симфонии Брамса. И из разговора с Зандерлингом узнаю я, что, по его мнению, Брамс – великий музыкант. А Жан-Кристоф говорил о нем просто глупости [481]. Столь же почтительно отзывается он о Брукнере. А о Малере говорит, что он слишком уж хорошо знал оркестр. И что его язык сегодня вдруг стал непонятен. Когда гуляю я, ищу грибы в леске за безымянным переулком, то на поляне среди сосен вижу сутулую знакомую фигуру, в очках, с листами партитуры. Зандерлинг шагает взад-вперед, и когда подхожу я ближе, то слышу, как он шипит. Это его особенность. Некоторые дирижеры поют, а он, погружаясь в свою музыкальную стихию, с лицом напряженным, строгим и торжественным, – он то и дело, словно собираясь произнести нечто таинственное и важное, надувает губы, приоткрывает рот, но не произносит ни слова, а только шипит. Говорит за него оркестр. Готовил он Третью симфонию Рахманинова и называл эту поляну своим кабинетом. Я в детстве был столько раз порицаем за то, что у меня нет слуха, что проникся особым почтением к людям музыкальным. Лет в шестнадцать стал я учиться музыке. И дела пошли неожиданно хорошо. Но уроки свои я бросил, едва начав. Одно время я думал о себе, что одет в одежу из лоскутов. Из начатых и оборванных дел. Потом, когда нашел я спасение от другого начатого и оборванного дела, от актерского, и как будто вышел на путь к настоящему своему делу, музыка заняла в моей жизни заметное место. Я думал, что люблю ее. И только в прошлом году понял, что не так, как следует. Гостила у нас Варя Соловьева. Она лежала в Катюшиной комнате, читала мою пьесу. А я писал. А по радио передавали концерт Моцарта, и это мне помогало работать. И я встал взглянуть – сколько Варя успела прочесть. Гляжу – ничего!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: