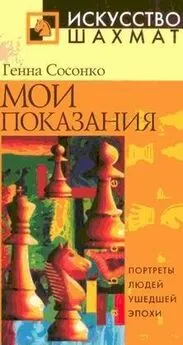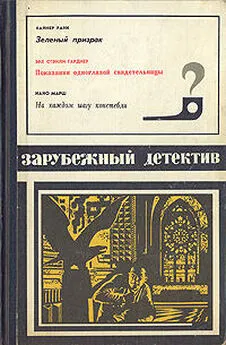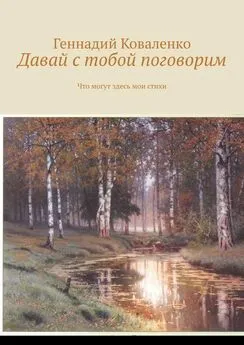Геннадий Сосонко - Мои показания
- Название:Мои показания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РИПОЛ КЛАССИК
- Год:2003
- ISBN:5-7905-2212-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Сосонко - Мои показания краткое содержание
Голландский гроссмейстер Генна Сосонко — талантливый литератор, один из лучших авторов знаменитого журнала «New in Chess». После успеха вышедшей в 2001 году в Санкт-Петербурге книги «Я знал Капабланку» его имя, прежде знакомое лишь любителям шахмат, стало известно тысячам российских читателей.
Новая книга продолжает и значительно дополняет первую. Наряду с портретами Таля, Ботвинника, Капабланки, Левенфиша, Полугаевского, Геллера в нее вошли эссе об Эйве, Майлсе, Тиммане, Флоре, Корчном, Лутикове, Ваганяне, Багирове, Гуфельде, Батуринском...
Мои показания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он был живой реликвией, частью эпохи, и невозможно оторвать или рассматривать его вне этой эпохи и вне ее контекста. «Сцепление всего со всем» - эта замечательная по простоте формула Толстого более чем любая другая применима к стране и ко времени, когда он жил. Невозможно понять некоторые поступки Шостаковича или Пастернака, например, вне того времени, когда они жили, и вне той удивительной, жестокой, ни на что не похожей страны. Но была и разница. Начиная с двадцатилетнего возраста, когда он впервые стал чемпионом СССР, его имя стало не просто популярным, оно превратилось в символ шахмат в Стране Советов, так же как имя Маяковского - в поэзии, Улановой - в балете или Шолохова — в литературе. Фотографии и статьи в газетах, автографы и восхищенные взгляды болельщиков, постоянное внимание людей, по выражению Салтыкова-Щедрина, «на заставах власть имеющих», — всё это вместе с врожденными качествами, характером и талантом сформировало феномен Михаила Ботвинника.
Расскажу еще о двух случаях, мне кажется, очень типичных для него. Как и большинство чемпионов мира по шахматам, Ботвинник вырос без отца и с детства был приучен к формуле, которая стала формулой жизни. Вот она. Свое восьмидесятилетие, которое совпало с окончанием претендентских матчей, он встречал в Брюсселе. Был большой банкет, и сам юбиляр выступал с речью. Я переводил, как мог, и, когда он под аплодисменты стал спускаться по лестнице, попытался взять его, почти ничего не видящего, под руку. «Нет, -сказал он твердо, — я сам, я — сам». Это было нежелание смириться, зависеть от чужой воли, остановить часы, сдаться. Всё, что он делал в шахматах и в жизни, все решения, которые он принимал, он принимал сам и, приняв однажды, следовал им неукоснительно.
Другой случай, из Тилбурга, когда он решил купить несколько авторучек для своих сотрудников и попросил меня помочь ему в этом. «Но только, чтобы обязательно были с черными чернилами, Геннадий Борисович, чтобы непременно с черными». В магазине, когда я сказал об этом девушке, она стала переспрашивать. Михаил Моисеевич прислушивался к нашему разговору и вдруг, отстранив меня, чтобы всё и окончательно разъяснить, решительно произнес: «Schwarz, understand?»
В последний раз видел его в декабре 94-го в Москве, в клубе на Гоголевском, где он работал еще каждый день. Был обычный снежный московский день, у кого-то из сотрудников — день рождения, пили чай с тортом, и всё казалось: так будет всегда, с ним ничего не может случиться, он переживет всех нас. Он, с его постоянной температурой 35,7°, как бы законсервировался, казалось, он вечный. И действительно, был крепок физически. Получив в детстве в подарок книгу Мюллера, всю жизнь делал гимнастику по его системе. Помню, как в 88-м, при самом первом знакомстве, в лифте гостиницы спросил: «А вы такое можете?» — и, опершись руками на металлические выступы, сделал «угол».
Но как-то нездоровилось, отправился в больницу, которую активно не любил (в последний раз был ровно полвека назад по поводу аппендицита), был поставлен диагноз — гнойный плеврит. Но введенный гамма-глобулин организм не принял, ему стало хуже. И в таком состоянии оставался Ботвинником, сам говорил врачам, какие препараты нужно ввести, чтобы нейтрализовать реакцию.
Все процессы в его организме пришли в движение, и рак поджелудочной железы в конечном итоге явился причиной смерти. Он умирал мужественно, превосходно понимая, что умирает, при ясном уме и твердой памяти, его, ботвинниковском, уме и его, ботвинни-ковской, памяти.
Василий Смыслов: «Помню, был с ним на Новодевичьем, так он сказал: «Я вот спокоен — буду здесь рядом с Ганочкой, и место уже есть». И протирал место, где теперь стоит урна с его прахом».
Он был спокоен в самом конце, сознательно приняв формулу древних: нам легче быть терпеливыми там, где изменить что-либо не в нашей власти. Хотя знал я его фактически только на самом последнем витке жизни, был он для меня всегда с заботами и мыслями конкретными, сегодняшнего дня, очень живым, деятельным человеком и никогда — мертвецом, еще не приступившим к своим обязанностям. Мало кто может сказать, умирая: «Я жил так, как считал правильным». Я думаю, что он мог так сказать.
Он был дома, в кругу своих близких, и совершенно сознательно отдавал последние распоряжения о морге, кремации, ненужности пышных похорон. Сам в последние годы принципиально не ходил на похороны. Объяснение этому, полагаю, не только в желании избежать отрицательных эмоций, с практической стороны дела бессмысленных. Мне думается, что скорее здесь имело место раздражение и неприятие факта, что кто-то (или в его случае правильно сказать, конечно, что-то), несмотря на то, что всё делалось правильно и игралось по позиции, по Капабланке, самым нелепым (а часто и неожиданным) образом кладет конец всему.
Гарри Каспаров в последнее время воевал со своим бывшим учителем. У них были разные взгляды на будущее шахмат, да и на жизнь вообще. Но они, такие разные, были в чем-то и похожи друг на друга непримиримостью, верой в собственную, единственную правоту. Через несколько дней после смерти Ботвинника Каспаров играл турнир в Амстердаме. Я увидел его через час после открытия при выходе из гостиницы, о чем-то оживленно разговаривающим со своим секундантом.
— Понимаешь, мы сейчас проверили, дошли до турнирного зала — отнимает все же двадцать минут.
Но если так пойти, будет короче, мне кажется, - заметил я.
Нет, это уж очень шумная улица.
Михаил Ботвинник с его идеями более чем полувековой давности сквозь размолвки и ссоры, годы и смерть строго смотрел на своего ученика. Его жизнь вместила в себя важнейшие события этого жестокого уходящего века: обе мировые войны, выход человека в космос, наконец, образование и распад одного из самых удивительных государств, шахматным символом которого он являлся.
— И о чем же вы, Гена, собираетесь со мной говорить? — спросил он, когда я включил магнитофон.
— Как о чем? О жизни, о жизни.
— М-да. А для чего же это?
Зная, что он не любит таких определений, отвечал все же:
Для бессмертия, Михаил Моисеевич.
Эк, куда хватили. Да вы воспоминания, батенька, собираетесь писать, так бы сразу и сказали...
Пятого мая на телетексте — невозможные, безжалостные слова. И — звонок Смыслову и подтверждение этих слов. И долгое хождение по комнате, и мечущиеся мысли, что нет больше Трои, и медленное понимание того, что некому сказать теперь, не прячась за иронию или шутку, что-то, что так и не успел сказать. Но привыкающая ко всему душа переносит того, кто жил, в другие измерения и категории, и жизнь продолжается уже без него, и понимаешь, что есть немалый смысл в том, что настоящее присутствие человека начинается лишь после его смерти, так же как обязательным условием бессмертия является сама смерть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: