Нина Берберова - Курсив мой
- Название:Курсив мой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Берберова - Курсив мой краткое содержание
"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.
Курсив мой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Много лет тому назад в каком-то русском дачном месте все лето в саду, в круглом киоске, похожем на раковину или не очень похожем, играл духовой оркестр, и капельмейстер, носивший желто-голубой мундир, ежедневно заканчивал свой концерт весело-грустным военным маршем. Меня водили вокруг киоска, и я старалась рассмотреть, как музыканты, похожие, как мне казалось, на пожарных (которых я боялась), дуют в трубы, свистят в флейты, выводят душераздирающие мелодии и потом вытряхивают из валторн слюну. Но больше всего я интересовалась барабанщиком, который бил в большой барабан, странно на него самого похожий, барабанщика пузатого, коротконогого, с бабьим лицом и необыкновенно короткими руками. Капельмейстер в желто-голубом мундире с седыми усами и осанкой героя русско-японской войны, с дочерью которого я играла в мячик на дорожках сада, был человек с фантазией, и в последний день дачного сезона придумал трюк, который моему детскому воображению показался гениальным: постепенно с эстрады киоска, во время бравурно-печального марша, уходили музыканты, унося свои инструменты. Так что под конец остались на эстраде только машущий палочкой капельмейстер и барабанщик, который бил свою дробь. Затем капельмейстер с палочкой в руке спустился с лесенки и пошел домой (так мне сказали), а барабанщик остался еще минуты на две и все барабанил в такт испарявшегося в воздухе марша. Потом, взвалив барабан на спину, ушел наконец и он. В памяти остался дождик, вдруг пошедший из ясного неба, сторож, засвистевший в свисток, и, может быть, для полноты картины - первые облетающие листья. Кто-то маленький заплакал. Кто-то большой сказал, что завтра приедут подводы и повезут вещи и кухарку в город. Какая-то грусть, ранний вечер, дома попытка нарисовать цветными карандашами паровоз, который повезет меня в Петербург. И все. Но образ последнего барабанщика в этом похожем - или не очень похожем - на раковину киоске остался в памяти на всю жизнь.
Остается один барабанщик
Сад закрыт
Так несколько раз в жизни я начинала стихотворение и бросала его главным образом потому, что ведь и он в конце концов не остался, а тоже ушел домой и все кончилось.
Но была, кроме этих двух причин, еще и третья, и она-то, как мне кажется сейчас, и была решающей Большинство из нас, во всяком случае большинство "молодых" - и в том числе я, - с благодарностью и благоговением брали от Франции, что могли. Все мы брали разное, но с одинаковой жадностью: одни брали Валери и Жида, другие - Франса и Дюамеля, третьи Маритена, четвертые - Мориака и Грина, пятые - Бодлера и Верлена. Между двумя войнами нам было из чего выбирать: Алданову и Ремизову, Бердяеву и Ходасевичу, Поплавскому и Набокову было что "клевать", и не только клевать, но и кормить своих детенышей. Начиная с 1945 года все изменилось: там, где еще недавно добывалась "интеллектуальная пища", ее больше не было, и ее отсутствие прямым путем вело меня к духовному голоду и обывательщине.
Я употребляю слова "пища" и "голод" с тайной целью возвратить этим штампам их первоначальный смысл, в котором они были произнесены Платоном и Данте. Первый в VII Послании говорил о том, что в процессе передачи истинного знания одним человеком другому есть нечто неуловимое:
"Это знание не может быть выражено словами... но в общих усилиях учителя и ученика оно внезапно рождается в душе и тотчас же начинает питаться самим собой, как огонь, который вспыхивает после того, как его раздули".
Вторично Платон говорит об этом в "Федре", 247:
"Божественный разум, когда его питает знание и чистая наука... наслаждается, видя сущность вещей, которую он до того не знал. И когда он... напитался всем этим, он возвращаемся... домой".
Второй в "Божественной комедии" ("Рай", песня Десятая) обращается к читателю, требуя от него, чтобы он питался тем, что перед ним поставлено поэтом:
"Я подал те6e. Теперь питайся этим, корми себя сам".
Я далека от мысли вынести какое-либо суждение о французской литературе послевоенных лет. В центре ее тогда стояли Capтp, Камю, Арагoн и Элюар. Первый олицетворял собою двусмысленность современного французского интеллектa, второй с самого начала своей недолгой жизни был жертвой какого-то артистического недовоплощения: не столько писатель, сколько явление, не столько поэт - сколько памятник эпохе (он цитирует две мои книги и упоминает меня в "Carnets" 1948 года). Я была на многолюдном митингe в большом зале Плейель, 13 декабря 1948 года, когда Камю говорил на тему, такую близкую когда-то Блоку: о поэте и черни. Он был в тот вечер похож на Блока, на нем был такой же белый свитер с высоким воротником, какой, по рассказам старых петербуржцев, Блок носил в 1920-1921 годах. И речь его на этом митинге была речью одиночки: он выступил между Руссе, "потрясавшим сердца" своим красноречием, и дадаистом Андре Бретоном, ставшим троцкистом, чье выступление носило характер шутовства. Где-то среди них Камю говорил - сжав челюсти, глухим голосом, держа руки в карманах и глядя поверх аудитории. Об этом поразительном сходстве с "митингу-ющим" Блоком в феврале 1921 года (в Доме Литераторов, в Петербурге) я написала Камю. Он ответил мне.
Эти годы были годами роста поэта Пьера Эмманюэля, любимого мной. Но он не вышел в первый ряд имен, который занимали Арагон и Элюар, виднейшие члены французской компартии.
Характерными для французской литературы этого времени были книги Марселя Эме: иронические, легкие, меланхолические, они всем своим характером говорили об антивсемирнос-ти, о локальности современной французской литературы, о ее "малой траектории" и "частном горизонте". И в эти же годы поднималось, как некое черное светило, имя Жана Жене, возведен-ного вскоре Сартром в гении и святые, Жене, две книги которого (одна - откровенно, другая - скрыто автобиографическая) затмили на целое десятилетие все остальные, несмотря на то, что в предисловии к одной из них Жене писал об "ангелах - немецких оккупантах", летающих в небесах и бросающих бомбы на Францию, а посвящена была книга некоему Пильоржу, убившему своего любовника Эскудеро, и известному Вейдеману, зарезавшему шесть человек и казненному в 1939 году. Сартр встал на защиту и этого предисловия, и его автора, и обеих книг, отчасти даже любуясь двусмысленностью собственного выбора: где, с одной стороны, он требовал engagement, целенаправленности всякого искусства, политической ответственности интеллигенции, априорного признания правоты всех требований рабочего класса, а с другой, - повинуясь какой-то темной порочности своей женственной природы, влекся к тому, что ему казалось (и не ему одному) мужественной силой антибуржуазной расы "избранных" - будь они рослые пролетарии, делающие социальную революцию, или светловолосые воины в фельдграу, или просто волосатые преступники, судимые по закону.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
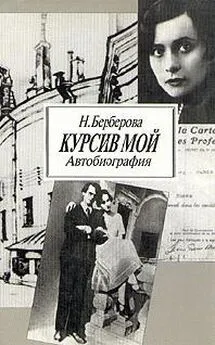

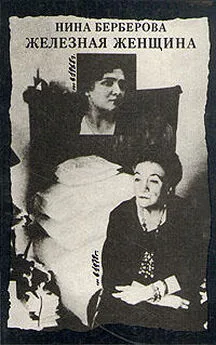

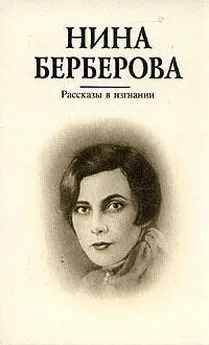
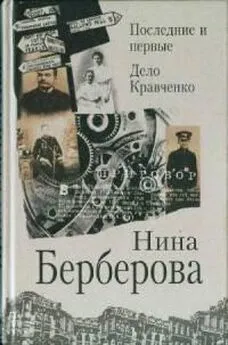
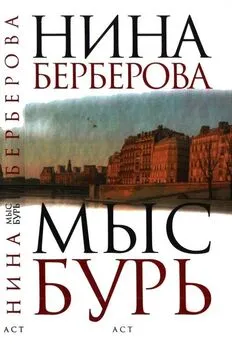
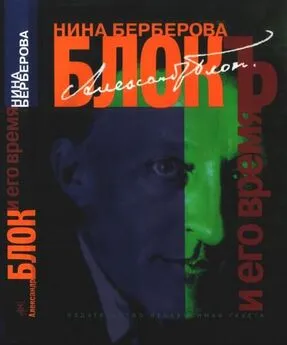
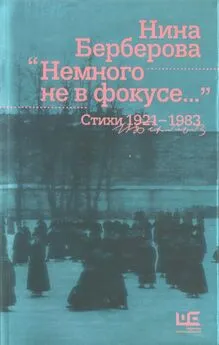
![Нина Берберова - Чайковский. История одинокой жизни [litres]](/books/1144472/nina-berberova-chajkovskij-istoriya-odinokoj-zhizni.webp)