Нина Берберова - Курсив мой
- Название:Курсив мой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Берберова - Курсив мой краткое содержание
"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.
Курсив мой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я забредала на кладбище, где лежал Обломов, я уходила туда, где, мне казалось, возникло мое первое сознание. Ветки яблони, до которых я когда-то не могла дотянуться, сейчас касались земли. Сухой колодец, в который мы кричали, чтобы он ответил нам, был все тот же, с полуразрушенным срубом, и однажды, заглянув в него, я вспомнила, как когда-то мечтала, что меня бросят в него. "Не выберусь, - сказала я себе спокойно, - останусь там умирать от жажды". Но в это время, на третьи, скажем, сутки, я вдруг замечу, что у самых моих ног пробился родник. Он бежит, журча и поблескивая, и я наклоняюсь к нему и пью. И так начинаю жить - на дне колодца, с ключом, питающим меня, о котором никто в мире не знает. Самое важное: найти ключ. В колодце? В себе? Зачем? Чтобы остаться жить. Зачем остаться жить? Нужно ли это? Только если найден ключ. Какой ключ? К какому замку? Я хочу сказать: родник. Родник откроет возможность жить. Или ключ откроет. Отопрет. Самое главное: найти. Потому что колодец непременно будет.
И в ту минуту я вдруг поняла, как озаренное молнией, мое будущее: я увидела, что колодец непременно будет, что он, собственно, уже есть. И что если я не найду в нем тайного источника, то я погибла.
(А если выползут змеи, то найдется дудочка их зачаровать.)
Я вернулась домой поздно. В темном саду молодые голоса орали: "А кто любит, кто не любит, пусть походит да пождет". Там были и поповы дочки теперь, и другие, кого я с детства знала.
Я поднялась к себе в комнату. Окно выходило в сад, и месяц вставал над старыми липами. Впервые я почувствовала, что надо мной и жизнью моей встал символ, встал и озарил для меня и жизнь, и ее смысл. До того все знаки и даже комета, которую я просила мне дать, были только знаками, словно а, в, с в геометрии, означавшие углы и стороны треугольника. Но сейчас появился символ, полный смысла, был колодец и ключ в нем, о котором я одна знала. И змеи. И дудочка. Будто я вкусила от дерева познания, и результатом этого было уже не беспредметное переполнение души, но большая печаль.
(Всех змей можно было зачаровать дудочкой. Но одна старая змея была глупа и глуха, и она не услышала чарованья.)
Это окно всегда напоминало мне то окно в Отрадном, где Наташа и Соня которые "меня не касаются" шептались ночью, а внизу их слушал Болконский. Так моя мать с внучкой декабриста, когда-то гостившей тут, предавались мечтам, а внизу уже был кто-то, кто волновал ее воображение. Так дочери Обломова - Ольга и Алина поверяли друг другу свои секреты о заезжих гусарах, а их мать о николаевских уланах. Но где во всем этом была я? Что во всем этом было моим? Я ощущала себя всем им чужой, на них непохожей, страшно далекой их мечтаниям, их шепотам и надеждам. Я зажгла свечу, взяла "Войну и мир" и хотела найти это место, но вместо того открыла страницы, где Наташа пляшет у чистое-дело-марш дядюшки, а любовница дядюшки (крепостная) любовно смотрит на нее. Это опять показалось мне камуфляжем: любовница дядюшки должна была ненавидеть Наташу, сделать ей больно, дети и внуки этой любовницы теперь хохотали в парке, и сорили семечками, и топтали цветы вот это была правда, которая была мне понятна и которую я целиком принимала: они только и ждали, когда можно будет сорвать в гостиной со стен штофные обои и сделать из них одеяла для ребят. Они были правы, а все, что писал Толстой, была иллюзия, я не могла верить ей, между мною и ею вставала жизнь, а между жизнью и мной самой - мой символ.
Я смотрела теперь на вставший над затихающим парком полный месяц, глаза мои наполнились слезами, что-то шевельнулось внутри меня, я чувствовала в доме смерть (у деда накануне был удар), но смерть не страшную, какую-то естественную и своевременную. Я чувствовала странное бессилие и потом сквозь слезы увидела второй полный месяц, он судорожно пытался догнать первый и содрогался в небе, как что-то содрогалось во мне, может быть, рыданье. Потом он пропал. Я чувствовала, что продолжаю погружаться в то страшное, узкое, глухое пространство, в которое вгляделась, наклонившись над срубом. А отец, стоявший за моим плечом, говорил:
- Вот увидишь, скоро слоны придут за слоновой костью и черепахи - за твоим гребешком. Я усмехнулась.
- Они придут отнять то, что им принадлежит по праву и что мы отняли у них.
- Я не отняла, ты не отнял.
- Не знаю, не знаю, это сложный вопрос. Но они придут.
Я знала, что он прав, и хоть он и говорил со мной сейчас как с маленькой, я не протестовала.
Быть может, надо было сказать ему, что я живу в глубоком колодце. Спросить его, как и когда пробился около него тот ключ, который его питает. Но я не спросила. Я боялась, что у него нет ключа или что его ключ никогда не поможет мне.
(А как же быть с той глухой, глупой, старой змеей, которая не услышит моей дудочки?)
Утешения не было, но было успокоение, успокоение в мысли, что мне что-то открылось там, под яблоней моего младенчества (куда я уже больше не вернулась), в прозрении, которое неожиданно озарило меня как бы ответом на смутные вопросы, касавшиеся меня и мира, и наконец - как красота образа. "В степи мирской печальной и безбрежной таинственно пробились три ключа" вдруг прозвучало во мне внезапным соответствием моим мыслям. У меня было не три ключа, но всего один, и он соединял в себе все три: сливая юность мою, мои вдохновения и возможность забвения.
А ночь уходила все глубже, и луна, как стрелка часов, двигалась, восходя и нисходя по небесному циферблату, усыпанному звездами, которых делалось все больше и больше, чем дольше я на них смотрела: камни, огонь, лава, разрывы, жар, кипенье, пары, круженье, молчанье.
Третий том стихов Блока вышел в этом первом военном году. Бурю музыки, которую он поднял в наших душах, трудно сейчас передать в нескольких словах. Он отвечал той стороне души, которая отрицала либестраумы и искала красоты, соединенной с отчаянием! Теперь, когда я смотрю назад, я вижу, что Пушкин был русским Возрождением, Блок - русским романтиз-мом, Белый русским кубизмом. В исторической перспективе все стало на место. И параллель-но росло мое поколение: от детского (и отроческого) Пушкина переходя к юношескому Блоку и дорастая до Белого - схематически, упрощенно намечаю я эту линию, которую я, конечно, тогда не видела, тем более что в те годы она переплеталась и путалась с другими, которые иногда перерастали, иногда заглушали ее.
Ранней весной 1915 года в Зале Армии и Флота на Литейном состоялся вечер "Поэты - воинам". Это был вечер благотворительный, один из многих других (как, например, "Артист - солдату"), на которые интеллигенция ходила с увлечением. Не знаю, почему меня решили взять на этот вечер. День был будний, вернее - вечер, уроки, вероятно, опять не были готовы (училась я урывками, как-то умела "выезжать", не брезговала ни подсказкой, ни подглядыванием, особенно в алгебре и физике, - слишком много времени уходило на чтение и писание стихов - до глубокой ночи), но так случилось, что после обеда мать объявила мне, что мы пойдем слушать поэтов. Пошли мы пешком с улицы Жуковского, где тогда жили [окна в окна с квартирой Бриков (ул. Жуковского, 7, кв. 35), где тогда жил Маяковский], вверх по Литейному. Я волновалась, все казалось - придем слишком поздно, не будет мест, случится что-то, что помешает. Ярко освещенная зала была переполнена. Мы сели довольно далеко от сцены, я - в своем парадном коричневом бархатном платье, с длинными косами и в башмаках на пуговицах. В первом отделении пела Андреева-Дельмас, а потом шло какое-то "действо" Мейерхольда; классический репертуар Александринки не подготовил меня к восприятию такого рода спектаклей, я не имела понятия в эти годы о новом театре, да и программа, которую я мяла в руках, так волновала меня, что я ничего не могла воспринять, думая о предстоящем. У актеров были огромные приклеенные носы, и они кувыркались на сцене, давая друг другу звонкие оплеухи, перегородки шатались, Олечка Судейкина и Габриэль Иванова были едва прикрыты легкими газовыми одеждами. Публика шикала и аплодировала. Свет сиял, все во мне напряженно дрожало. Наступил первый антракт, и я приросла к своему стулу. После перерыва на эстраду вышел Сологуб, за ним Блок, Ахматова, Кузмин, Городецкий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:




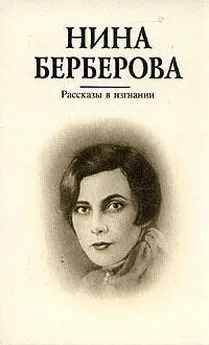
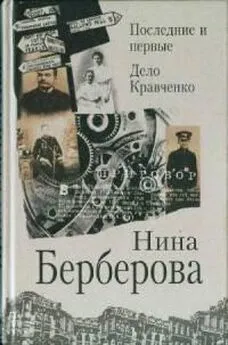
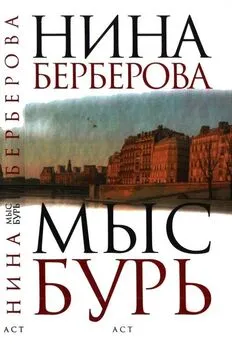
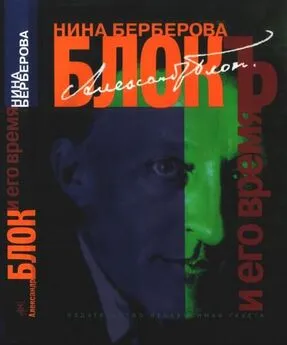
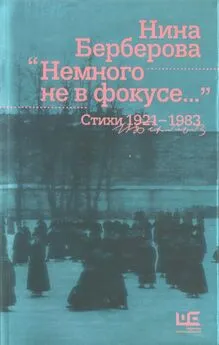
![Нина Берберова - Чайковский. История одинокой жизни [litres]](/books/1144472/nina-berberova-chajkovskij-istoriya-odinokoj-zhizni.webp)