Нина Берберова - Курсив мой
- Название:Курсив мой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Нина Берберова - Курсив мой краткое содержание
"Курсив мой" - самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901-1993), снискавшая ей мировое признание. Покинув Россию в 1922 году, писательница большую часть жизни прожила во Франции и США, близко знала многих выдающихся современников, составивших славу русской литературы XX века: И.Бунина, М.Горького, Андрея Белого, Н.Гумилева, В.Ходасевича, Г.Иванова, Д.Мережковского, З.Гиппиус, Е.Замятина, В.Набокова и др. Мемуары Н.Н.Берберовой, живые и остроумные, порой ироничные и хлесткие, блестящи по форме.
Курсив мой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ach, du warst in langst vergangnen Zeiten
Meine Schwester oder meine Frau,
когда сотворим мы с тобой эту дивную сказку?
Я бежал, соскочив на ходу, и навстречу бежали уроды немецкие, и я бился в толпе, пробиваясь локтями, ища того пёсика, под рекламой сигарной... И вот - добежал я до вас... Дорогая, чайку бы мне чашечку, а если найдётся печёньице, то и печёньица...
Он приходил к нам, и мы шли куда-нибудь "посидеть" - начиналось это иногда в семь, иногда в девять часов вечера и кончалось далеко за полночь. Или он уводил нас, после какого-нибудь литературного собрания, в пивную "Цум Патценхофер" и там держал разговорами до закрытия трактира, то есть часов до двух-трех. Или, когда мы переехали в Сааров и он приезжал к нам на несколько дней, иногда на неделю, он писал, читал нам написанное, иногда отделывал и писал вторично, и опять уводил нас "посидеть" с ним, то есть выпить в кафе, ресторане или пивной, иногда туда, где люди танцевали, и он т оже танцевал - слишком частая потребность таких, как он, физически не защищенных и в чем-то незрелых людей, мучимых до старости соблазнами и боящихся этим соблазнам предаться, а может быть, не умеющих им предаться. А может быть, и не могущих?
Об эих наших ночных прогулках по Берлину Ходасевич написал замечательное стихотворение: мы все трое в нем - как три ведьмы в "Макбете", - но с песьими головами.
С берлинской улицы вверху луна видна,
В берлинской улице ночная тень длинна,
Дома, как демоны, между домами мрак,
Шеренги демонов и между них сквозняк.
Дневные помыслы, дневные души - прочь!
Дневные помыслы перешагнули в ночь.
Опустошенные, на перекрестки тьмы,
Как ведьмы, по трое, тогда выходим мы.
Нечеловечий дух, нечеловечья речь,
И песьи головы поверх сутулых плеч.
Зеленой точкою глядит луна из глаз,
Сухим неистовством обуревая нас,
В асфальтном зеркале сухой и мутный блеск,
И электрический над головами треск.
Иногда с ним вместе приезжала в Сааров К.Н.Васильева. Она была похожа на монашку ("антропософская богородица", иногда в сердцах называл ее Борис Николаевич, конечно - за ее спиной, но так называл он и других своих антропософских подруг). Она носила черное длинное платье, черный шерстяной платок на узких плечах. Мне (да и всем вокруг) она казалась без возраста, она никогда не улыбалась, с тонкими, поджатыми губами, красным носиком, гладкой прической. Она ложилась рано в отведенной ей комнате, рядом с моей (мы тогда жили в гостинице при вокзале), и ни одного звука не раздавалось за стеной. Ее Борис Николаевич не просил ни "посидеть" с ним, ни потанцевать с ним, ни выслушать еще раз всю драму его любви к Л.Д.Блок, ни пересмотреть развалины прекрасного когда-то здания его антропософских верований. Она держалась в стороне от всех его надрывов и, конечно, не могла бы найти себе места среди тех женщин, которых он тогда ставил в один ряд, - от Сикстинской мадонны до уличной проститутки (причем иногда одна и та же женщина была и тем и другим почти одновременно). Впрочем, у К.Н.Васильевой тоже был целый ряд различных воплощений: иногда в его диком воображении она была защитой и убежищем, "почти что мамочкой", а иногда он готов был приписать ей коварную роль: она подослана "доктором" следить за ним и спасти его! Какая-то мысль "спасти" его, видимо, уже тогда жила в этой женщине, но угадать, что она станет его женой, было совершенно невозможно. Она была, как говорилось когда-то, особой загадочной, то есть не раскрывала ни сути своей, ни планов своих, а, впрочем, может быть, ни того ни другого в настоящем смысле тогда еще не было.
Летом 1923 года он приезжал в приморское местечко Преров, где жили Зайцевы, Бердяевы, Муратов и мы. Шел дождь. Мы играли в шахматы с Муратовым и вели долгие разговоры, потом топили печку, ходили гулять на берег Балтийского моря в плащах, под ветром и дождем, вечером смотрели в кино "Доктора Мабузе". У Зайцевых, как всегда, было светло, тепло и оживленно, с тяжелой тростью Н.А.Бердяев выходил на свою ежедневную прогулку в дюны. Его жена и теща были обе больны коклюшем.
Потом все вернулись в Берлин, и вдруг стремительно быстро оказалось, что все куда-то едут, разъезжаются в разные стороны, кто куда. В предвидении этого близкого разъезда, 8 сентября мы собрались сниматься в фотографии на Тауенцинштрассе, и Белый пришел тоже, но раздраженный и особенно напряженно улыбающийся. Гершензон еще месяц тому назад сказал Ходасевичу, что когда он ходил в советское консульство за визой в Москву для себя и семьи (он уехал 10 августа), то встретил в консульстве Белого, который тоже хлопотал о возвращении. Нам об этом своем намерении Белый тогда еще не говорил. Помню грусть Ходасевича по этому поводу - не столько, что Белый что-то важное о себе от него скрыл, сколько по поводу самого факта возвращения его в Россию. Ни минуты Ходасевич не думал отсоветовать Белому ехать в Москву - Ходасевич открыто говорил, что для него совершенно не ясно, что именно Белому лучше сделать: остаться или вернуться. Он принял, как неизбежное, и возвращение Гершензона, и возвращение Шкловского (после его покаянного письма во ВЦИК, 21 сентября), и возвраще-ние в Москву А.Н.Толстого и Б.Пастернака, и долгие колебания Муратова, который в конце концов остался. Но тревога за Бориса Николаевича была совсем иного свойства: как, где и для кого сможет он лучше писать?
8 сентября утром был сделан групповой снимок (в 1961 году приложенный мною к Собра-нию стихов Ходасевича, изданному в Мюнхене), а вечером был многолюдный прощальный обед. И на этот обед Белый пришел в состоянии никогда мною не виданной ярости. Он почти ни с кем не поздоровался. Зажав огромные кисти рук между колен, в обвисшем на нем пестро-сером пиджачном костюме, он сидел, ни на кого не глядя, а когда в конце обеда встал со стаканом в руке, то, с ненавистью обведя сидящих за столом: (их было более двадцати) своими почти белыми глазами, заявил, что скажет речь. Это был тост как бы за самого себя. Образ Христа в эти минуты ожил в этом юродствующем гении: он требовал, чтобы пили за него потому, что он уезжает, чтобы быть распятым. За кого? За всех вас, господа, сидящих в этом русском ресторане на Гентинерштрассе, за Ходасевича, Муратова, Зайцева, Ремизова, Бердяева, Вышеславцева... Он едет в Россию, чтобы дать себя распять за всю русскую литературу, за которую он прольет свою кровь.
- Только не за меня! - сказал с места Ходасевич тихо, но отчетливо в этом месте его речи. - Я не хочу, чтобы вас, Борис Николаевич, распяли за меня. Я вам никак не могу дать такого поручения.
Белый поставил свой стакан на место и, глядя перед собой невидящими глазами, заявил, что Ходасевич всегда и всюду все поливает ядом своего скепсиса и что он, Белый, прерывает с ним отношения. Ходасевич побледнел. Все зашумели, превращая факт распятия в шутку, в метафору, в гиперболу, в образ застольного красноречия. Но Белый остановиться уже не мог: Ходасевич был скептик, разрушал вокруг себя все, не создавая ничего, Бердяев - тайный враг, Муратов - посторонний, притворяющийся своим; все сидящие вокруг вдруг обернулись в его расшатанной вином фантазии кольцом врагов, ждущих его погибели, не доверяющих его святости, с ироническими улыбками встречающих его обреченность. С каждой минутой он становился все более невменяем; напрасно, не слушая его грубостей и не оскорбляясь ими, Зайцев и Вышеславцев старались его угомонить. Он, несомненно, в те минуты увидел себя если не Христом, то святым Себастьяном, пронзенным стрелами, - стены упали, драконы раскрыли свои пасти, и вот он готов умереть - ни за кого! Его повели к дверям. Я в последнюю минуту хотела сжать его руку, на мгновение предать Ходасевича, чтобы только сказать Белому, что он для меня был и будет великим, одним из великих моего времени, что его стихи, и "Петербург", и "Первое свидание" - бессмертны, что встречи с ним были для меня и останутся вечной памятью. Но он, увидев, что я подхожу к нему, весь дернулся, закинул голову, приготовился, как пантера к прыжку... и я отошла или, вернее, - меня оттянули за рукав благоразумные доброжелатели. И больше я никогда не видела его. Он уехал из Берлина в Москву 23 октября 1923 года. Ему сначала отказали в визе, но затем советский консул переменил свое решение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:




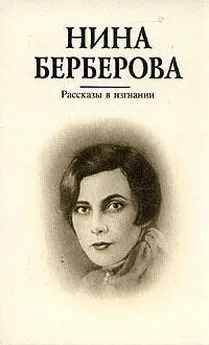
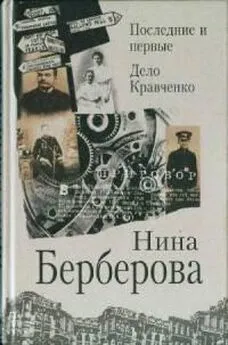
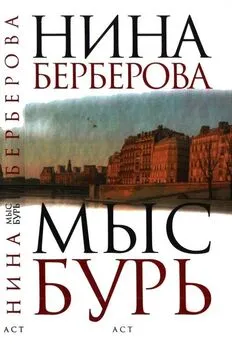
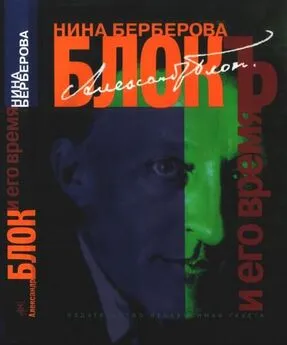
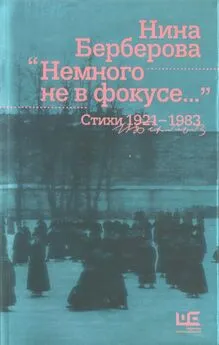
![Нина Берберова - Чайковский. История одинокой жизни [litres]](/books/1144472/nina-berberova-chajkovskij-istoriya-odinokoj-zhizni.webp)