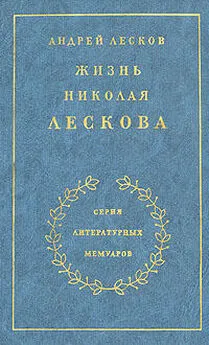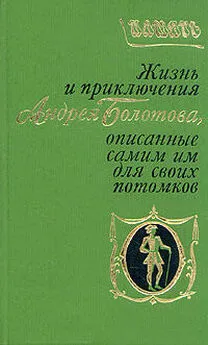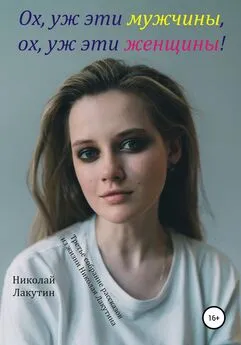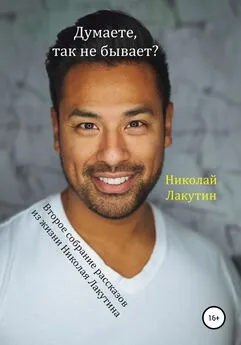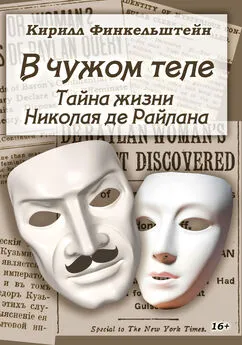Андрей Лесков - Жизнь Николая Лескова
- Название:Жизнь Николая Лескова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Лесков - Жизнь Николая Лескова краткое содержание
Книга А. Лескова об отце рассказывает вначале о роде Лесковых, детстве и юности писателя, его трагических заблуждениях 60-х годов, поисках гражданского, нравственного и эстетического идеала. Вторая половина книги охватывает период с 1874 года до смерти Н. С. Лескова в 1895 году, период расцвета творчества писателя, его сложных нравственных исканий, противоборства официальной печати, дружбы с Толстым и другими деятелями русской культуры.
Жизнь Николая Лескова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Витя, Витя, где ты был?
Я к Глушкову1 заходил,
На двугривенный купил,
Чуть все сам не проглотил! [616] 1Гастрономическая лавка на углу Фурштатской и Воскресенского.
С годами отношение к “Витеньке” приобрело суровый и даже недоверчивый характер. В первой главе “Зимнего дня” по отношению к “Олимпии”, под которой прозрачно подразумевалась известная Ольга Новикова, вспоминается “предостережение, которое Диккенс делал против всех лиц, живущих неизвестными средствами”. В минуты раздраженности Лесков говорил о “Протеке”: “Изболтался. Ни к какому делу не способен. За пятьдесят лет жизни своей не знал, что такое обязанность. Поэтому никогда не держит своего слова. Скажи ему, что я умираю, и пошли его в аптеку — он по дороге заговорится с встречным знакомым и опоздает. Скажет — придет завтра, придет через неделю… Его помощь словами в горе и затруднениях очень дешева: слова не помогают, а он садится пить чай и читать “Новое время”. И скажите мне, пожалуйста, — уже строго спрашивал Лесков: — чем он живет? Всегда очень важно знать источник средств человека!” И вслед непременно приводился совет Диккенса.
Но этот суд пришел не скоро: к старости Лескова и полустарости былого когда-то наперсника.
Следующее письмо к Матавкину от 22 июля (3 августа) безнадежно не менее предыдущих:
“Доктор мой говорит, будто “дело идет отлично”, но я сомневаюсь: мне все кажется, что я еще и теперь не мог бы слышать похвал ни Авсеенке, ни Гундольфу [617] сильно гундосившему председателю ученого комитета А. И. Георгиевскому. — А. Л.
, и при воспоминании о них уже волнуюсь и сержусь, — не на них, а на насмешку судьбы. Я написал Ахиллу и сочинил, что тот страдал “в пользу детских приютов”, а сам между тем перепортил бог весть сколько крови в пользу этой сволочи, которой на пороге своем не хотел бы видеть… Много раз брался за перо, но бросал: не вяжется ничто в голове, и давно, давно уже не вяжется, ибо и во сне и наяву все мое горе на уме; но авось же это когда-нибудь пройдет… Я уже потерял всю энергию, всю смелость и фантазию и все вращался только на одной печальной мысли о своей доле. Сострадания же я не мог и не могу ждать, как меду от мертвого улья. Стало быть, “беги, мой брег, несись, мой челн”, куда вынесет волна. В Россию я не в силах вернуться: это было бы очень, очень мучительно, — на чужбине легче. Мои милые чехи устраивают меня с любовью: я надеюсь жить удобно и дешево: народ хороший, литераторов много, и язык мне доступен; а надоест, — пущусь далее искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. В Прагу я выеду 8-го русского августа… Протейкинскому скажите, чтобы ни о чем уже не беспокоился. Я сам внимателен со всеми просьбами и не люблю, если данные мне обещания вменяют ни во что”.
Наконец несколько строк из последнего из известных писем к Матавкину, от 30/18 августа, уже из Дрездена. На этот раз, как часто случается в жизни, тягостное и драматичное малоожиданно сближаются на одном почтовом листке с анекдотически смешным.
“Не хочу отстать от компании русских, с которыми отправляюсь пешком в Саксонскую Швейцарию, а вещи мои сегодня же посылаю в Берлин, потому что хочу видеть и сию форменнейшую столицу… Из Праги я ехал по жел[езной] дороге до Аубига, а оттуда по Эльбе, местностями столь очаровательными, что просто дух захватывает. Особенно хорошо возделаны эти дивные берега, то горы до неба, то цветущие гроздьями виноградники. Я был очарован и весел. Дрезден не велик, — он даже менее Праги, но хорошо обстроен на парижский манер — есть часть города совсем как Париж, но зато: “Куда ни глянешь — красный ворот” или гвоздь на каске. Не будет никакого преувеличения, если я скажу, что здесь 5-й человек в форме, — кучера и те в военных фуражках, и девки в особых мундирах. Таковы-то эти наши “культуртрегеры”. В Берлине этого добра еще более…
Здоровье мое ничего себе, но чем ближе я приближаюсь к России, тем становлюсь беспокойнее. Отсюда я уже в 2 днях расстояния и поеду на Гамбург, который хочу посмотреть; но к 24-му непременно буду в Варшаве, где сам не знаю, что делать. Знаю, что мне нужно спасти себя от осуждения погибнуть в мстительной дрязге неведомо за что; но мысль оставить дитя и все, чем жив, — просто убивает… Время может все изменить, но тут и оно, как сами знаете, оказалось бессильно: ста дней мало вышло, чтобы пришла добрая мысль поправить зло, причиненное человеку самыми несправедливыми и тяжкими обидами… На что еще надеяться… Будь, что будет, куда бог примостит” [618] Все три письма — в Бахрушинском музее, Москва.
.
В Варшаве происходит несколько охлажденное уже свидание со старым приятелем Щебальским. Тут же лично знакомится Лесков с председателем “Главной дирекции Земского кредитного общества Царства Польского”, бароном В. М. Мегденом, которого влиятельные московские славянофилы усердно “вдохновляли” устроить Лескову пристойно оплаченную и недосадительную службу. Всерьез ли думал Лесков перебраться из литературного Петербурга в безлитературную для русского писателя столицу Польши?
Шла какая-то примерка того, по чему в глубине души перекраивать свой быт отнюдь не хотелось и чем люди его запросов, влечений и одаренности заведомо не могли быть “живы”.
Пока, не разрешив ни одного из мучивших вопросов, надо было возвращаться в Петербург, к успевшему стать ненавистным Ученому комитету с его Авсеенками и Гундольфами, к неосилимой литературной отверженности, к безработице, к омертвевавшему семейному улью…
ГЛАВА 2. “В СОМНЕНЬЯХ ИЗНЫВАЯ”
Четырехмесячное пребывание за границей дало на этот раз резкий поворот в некоторых прежних, с детства усвоенных, взглядах и всего больше в области религиозных воззрений.
“Вообще, — писал Лесков Щебальскому из Мариенбада, — сделался “перевертнем” и не жгу фимиама многим старым богам. Более всего разладил с церковностью, по вопросам которой всласть начитался вещей, в Россию не допускаемых. Имел свидание с молодым Невилем [619] французским теологом. — А. Л.
и… поколебался в моих взглядах. Более чем когда-либо верю в великое значение церкви, но не вижу нигде того духа, который приличествует обществу, носящему Христово имя… Но я с этим так усердно возился, что это меня уже утомило. Скажу лишь одно, что прочитай я все, что теперь мною по этому предмету прочитано, и выслушай то, что услышано, — я не написал бы “Соборян” так, как они написаны, а это было бы мне неприятно. Зато меня подергивает теперь написать русского еретика — умного, начитанного и свободомысленного духовного христианина, прошедшего все колебания ради искания истины Христовой и нашедшего ее только в одной душе своей. Я назвал бы такую повесть “Еретик Форносов”, а напечатал бы ее… Где бы ее напечатать? Ох, уж эти “направления”! [620] Письмо от 29 июля 1875 г. — “Шестидесятые годы”, с. 330–331.
Интервал:
Закладка: