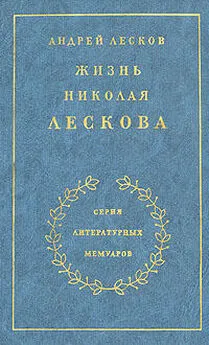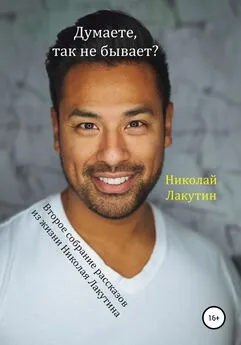Андрей Лесков - Жизнь Николая Лескова
- Название:Жизнь Николая Лескова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Лесков - Жизнь Николая Лескова краткое содержание
Книга А. Лескова об отце рассказывает вначале о роде Лесковых, детстве и юности писателя, его трагических заблуждениях 60-х годов, поисках гражданского, нравственного и эстетического идеала. Вторая половина книги охватывает период с 1874 года до смерти Н. С. Лескова в 1895 году, период расцвета творчества писателя, его сложных нравственных исканий, противоборства официальной печати, дружбы с Толстым и другими деятелями русской культуры.
Жизнь Николая Лескова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Вот она — моя библиотека, — с гордостью произнес Сергей Николаевич, распахнув передо мной надежную дверь с солидными запорами.
Я стоял в пустой комнате с железными решетками на окнах и железными же волнистыми полками вдоль всех стен от полу до потолка. В правильных их углублениях покоились бутылки.
— Не похожа на родительскую? А преинтересная. Есть замечательные “авторы”. Имеете ли вы что возразить против Шато-Латур, издания 1871 года? Почтенный, всемирно известный романский автор, мягко согревающий душу и тело, но и сам ищущий легко предварительного затепления. Или вот. прославленный германец Иоганнисбергер — кабинет, издания 1879 года, солидный немец, требующий прохлады. Все это им и будет представлено, пока мы займемся настойками.
Обстоятельное знакомство с каталогом продолжалось с авторитетными пояснениями владельца этой своеобразной библиотеки. Сложив отобранных авторов в убористую плетеную корзиночку, мы с благоговейной осторожностью передали часть содержимого на кухню для затепления и охлаждения, а с остальным возвратились в столовую, где нас уже не без нетерпения ожидала хозяйка с набором дымившихся сотейников и холодных закусок.
Началось священнодействие. Столовая в этом доме главенствовала. Ей была отведена лучшая, самая большая комната в три окна на Большую Невку. Вся она была залита солнцем, в лучах которого нежились благовоспитанные, холеные собаки. Хозяйка была великая искусница и радушнейшая хлебосолка. Я получал истинное крещение в дегустации вин и артистичности кулинарии.
Из застольной беседы ничего не удержалось, но один острый момент не забылся. Рассказывая что-то, Атава зачастил: “у нас в тамбовском дворянстве”. Дело было уже за кофе и коньяком, после внимательного ознакомления с несколькими “авторами”. Неожиданно Лесков, всмотревшись в него, едко перебивает:
— Постой, постой. Что это ты раздворянился-то так!
— А как иначе-то? Происходим из тамбовского, потомственного.
— Полно! Ну посмотрись в зеркало — что в тебе дворянского-то?
— Не хорош, говоришь?
— Хорош-то хорош, да только ни дать ни взять — предводительский кучер…
Ошеломленный, я обомлел, ожидая какой угодно встречной колкости. Происшедшее дальше превзошло все казавшееся мне возможным. Атава, мотнув головой, может быть желая замять неловкость, с равнодушной улыбкой отмахнулся:
— Не спорю, возможно… Мамаша зимами в деревне скучали…
У всех отлегло от сердца. Кто принял это за милую шутку, кто — за желание как-нибудь разрядить напряженность положения. Уверен, что сам Атава поддался с маху язычному ухарству и ляпнул что-то, не успев подумать. Это случалось с заправскими краснословами.
Шли медовые дни восстановления нашего сожительства. По всем указаниям прошлого, они не могли быть долги.
Лекции у меня начинались в восемь утра. Ходьбы на них было больше пяти верст. Конка начинала работать только с восьми. Извозчики на такой “конец” были дороги. Выходить приходилось без четверти семь. Предметов было много, курс большой. Целые кирпичи в 600–700 страниц по артиллерии, фортификации, военной истории, механике, химии, военному и гражданскому законоведению, военной администрации и т. д., до бесконечности. Работы было выше сил, а надо было наверстать впустую потерянный год.
Конечно, хоть изредка хотелось побывать в театре или потанцевать где-нибудь на вечеринке. Последнее уже совершенно не прощалось. Танцы Лесков признавал верхом беспутства. Ссылки на неотвращение к ним Пушкина, Лермонтова и других величайших людей ничему не служили.
В одной прочно забытой сейчас своей статье, посвященной целиком И. С. Тургеневу, Лесков мельком, но явно сочувственно, коснулся вопроса о возможности воспитания поучениями, не подкрепляемыми личным примером проповедника. “Люди обыкновенно осуждают тех, кто стоит столбом, указывая другим дорогу, а сам по ней не ходит. Осуждение это справедливо, хотя, конечно, и придорожные столбы тоже нужны и полезны. “Поступайте так, как я говорю, но не делайте того, что я делаю”, говорил один проповедник, умевший быть очень полезным для своего прихода” [1049].
Не знаю, в кого, вероятно в Василия Семеновича, я удался в любимые ученики не только у учителя пения А. И. Рубца, но и у корпусного нашего преподавателя танцев, балетного артиста А. Д. Чистякова.
Неукротимое осуждение любви к танцам в сыне, во мне, представляется чем-то совершенно не вяжущимся с искренним восхищением тем, как танцевали на городской площади мазурку кракусы, как ее же лихо отхватывал сподвижник киевских похождений Лескова знаменитый поп Юхвим Ботвиновский или в “Островитянах” сперва поляк под старинную мазурку Хлоницкого, а потом художник Истомин на вечеринке в немецкой семье Норк. Тут тонко, по-знатоцки, расценены все танцоры, их приемы, ухватки и стили. Видно, что автор отлично разбирается в них и безошибочно определяет характер и прелесть каждого из танцев. Для этого надо было ценить самое искусство и уж конечно не предавать его беспощадному осуждению, как это придумалось в отношении собственного юного сына. В одной, очень специальной, ранней статье [1050]Лесков даже строго осудил раскольничье предубеждение против танцев.
Пришел я раз в феврале 1887 года много раньше обыкновенного — в начале третьего — домой. Отца не было дома. Уместился в его кабинете, развернул лежавшую на соседнем столике декабрьскую книжку “Русской мысли” недавно истекшего года и стал перечитывать “Сказание о Федоре-христианине и о друге его Абраме — жидовине”. В первом чтении рассказ показался мне более проповедническим, чем художественно ценным, живым, трогающим. Перечитал концовку, поясняющую, что сказание “подается для возможного удовольствия друзей мира и человеколюбия, оскорбляемых нестерпимым дыханием братоненавидения и злопомнения” [1051], вспомнил, какое дыхание преобладает последнее время у нас в доме, посмотрел на глядевших на меня со стен Христов и, вздохнув, пошел к себе.
Наступил март. Близились зачеты за последнюю четверть годового курса. За ними надвигались экзамены. На душе было заботно. Дома неотвратимо надвигалась гроза. Требовалась большая выдержка. Бочка с порохом стояла открытой. Дело было за случайной искрой.
Однажды, проходя через столовую в свою комнату, я увидал три прибора. Оказалось, что к обеду звана Вера Бубнова. С моей и ее матерью в этот момент мой отец не видался. Доброго в этом приглашении не чувствовалось.
Пришла Вера. Отец вышел из кабинета туча тучей. Сели: я слева, Вера справа от отца. Беседа повелась подчеркнуто с ней одной. Так шло весь обед. Это был хорошо известный, коронный прием выражения крайнего неблаговоления, опалы. Тарелки с супом и жарким протягивались мне левой рукой вслепую. Подали любимый отцом десерт — пюре из чернослива со сбитыми сливками. Виделся конец обеда. Неужели пронесет? Не может быть! Для чего-нибудь ее присутствие да понадобилось. И едва я так подумал, как, закончив говорить что-то Вере, отец круто повернулся ко мне:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: