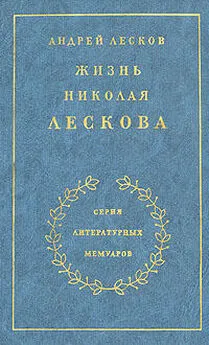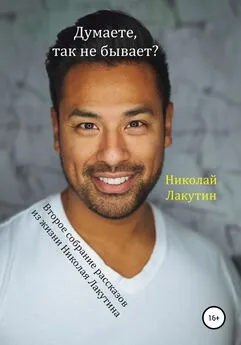Андрей Лесков - Жизнь Николая Лескова
- Название:Жизнь Николая Лескова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Лесков - Жизнь Николая Лескова краткое содержание
Книга А. Лескова об отце рассказывает вначале о роде Лесковых, детстве и юности писателя, его трагических заблуждениях 60-х годов, поисках гражданского, нравственного и эстетического идеала. Вторая половина книги охватывает период с 1874 года до смерти Н. С. Лескова в 1895 году, период расцвета творчества писателя, его сложных нравственных исканий, противоборства официальной печати, дружбы с Толстым и другими деятелями русской культуры.
Жизнь Николая Лескова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Проскальзывает кое-что и в произведениях. Так, например, в 1875 году в “Блуждающих огоньках” отец говорит сыну: “Учись, братец, всему полезному, а то, если будешь бесполезен, я тебя в уланы отдам” [482] “Блуждающие огоньки”, гл. 2. — “Нива”, 1875, янв.
. Это было не в бровь, а прямо в глаз, да еще и всенародно.
Не остается в долгу и Крестовский, пустивший в том же году в оборот акафист, далеко не исчерпанный в своей злобности и хлесткости строфою:
Мир ти, чадо! Проскакав
По Европе много станций,
К нам вернулся цел и здрав
Новый наш Лактанций.
Так постепенно от былой, хотя бы и недолгой, дружбы ничего и не осталось.
Г. П. Данилевский в упоении признательно писал 3 декабря 1869 года М. М. Стасюлевичу: “Вы… отграничили меня от гг. Крестовского и Стебницкого в вашем журнале” [483] “М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке”, т. V, Спб. 1913, с. 306.
. Теперь они отграничивались друг от друга уже сами, и чем дальше — тем глубже.
Однако до последних своих дней Лесков не отнимал у Крестовского прежних его заслуг. В беседах дома он неизменно указывал, что “Петербургские трущобы” в свое время сыграли большую роль как одна из первых попыток заинтересовать общество вопросами социального характера, заставить его читать “книгу о сытых и голодных” и задуматься о доле последних [484] Письмо М. О. Меньшикову от 27 мая 1893 г. — Пушкинский дом.
.
Насколько мы, мелкота, радовались всегда приходу Крестовского, настолько же боялись появлений Писемского. Нам было строго внушено, что он терпеть не может детей. И нас прятали и держали в дальних комнатах. Рассказывали, будто, когда ему однажды объяснили, почему он нас не видит, он рассмеялся: “И совсем это неправедный поклеп на меня, а я детей даже очень люблю, и всего пуще, когда они заплачут”. — “Полноте, Алексей Феофилактович, ну что же в том хорошего, что плачут-то?” — возразила моя мать. “А их тогда, глядишь, сейчас же и уберут”, — ответил маститый гость. Впрочем, мне почему-то кажется, что такой диалог “имел хождение” применительно не к одному Писемскому.
Собственных чисто “литературных” воспоминаний этой ранней моей поры у меня, естественно, не могло создаваться. Ребячески поражала, всем казавшаяся смешной, напряженная суетливость полненького Данилевского, которого попозже Лесков не раз иносказательно именовал “бойким” или “юрким литератором”. Особенно озадачивала мое детское воображение и любопытство совершенно черная, с горошину, выпяченная бородавка у него на лбу. Запомнился еще высокий, ражий, всегда улыбчивый Ф. Н. Берг, стихотворение которого о заиньке, лапочкой о лапочку похлопывающем и трогательно приговаривающем: “экие морозцы, прости господи!”, Лесков охотно наизусть читывал до последних лет своих, поглядывая в ясные дни в окна на обмерзших людей и лошадей. С тех еще времен и пошло за Бергом прозвище “Заинька”. Пожалуй, и все.
С концом 1870 года связано мое первое, счастливо для меня начатое знакомство с моим родством: приехал дядя Вася. Ему отведена глава 6 в четвертой части этой книги. Ему я обязан до сих дней согревающими дух и мысли воспоминаниями об обидно краткой, но полной неувядаемой прелести поре моего раннего детства.
И все-таки приходится сознаться, что и это такое милое мне тогда имя, в смену лет, постепенно оказалось “забытое давно в волненьях новых и тревожных”, переставая служить источником “воспоминаний пылких, нежных”. Но внутреннее, хорошо залегшее в душу чувство, хотя бы годами и приглушенное, не омертвевает совершенно, пока жив человек. В свой срок прошлое воскресает… Многое тут бывает страшно, но многое и умиляет. И сейчас, три четверти века спустя, Василий Семенович мог бы продолжить допущенное здесь пользование прекрасным стихом, сказав: “Есть память обо мне, есть сердце, где живу…” и не ошибся бы: живет!
Не смею утверждать, что я сохранил безупречно четкое, живое, не по фотографиям, представление внешности покойного. Но я полон чувствованием его всегда бледного, задумчивого лица, какой-то, может быть только в условиях петербургских незадач возникшей, робости выражения синих глаз. Хорошо помню высокую гибкую фигуру, легкую поступь, спокойные движения, мягкий жест, приветность речи. Без затруднений представляю, ощущаю зимние вечера, в которые мы сиживали с ним на большом диване в полутемной угловой нашей зале, ведя бесконечные, едва ли многозанимательные для него, но восхитительные для меня, тихие беседы, исподволь прислушиваясь к покашливаниям и нервным передвигам рабочего кресла в кабинете.
Таким рисуют мне Василия Семеновича моя память, чувство… Этого, конечно, мало.
Как уже известно, он оставил дневничок — подлинный “человеческий документ”. Он был начат, веден и брошен строго по интимным побуждениям и потребностям. Этим утверждается бесспорность его искренности. Им сбережены простосердечные свидетельства о жизненной и рабочей обстановке Николая Семеновича в те времена. Небольшие извлечения из него, несомненно, кое-что осветят. Итак — к ним, к дневничку, к “человеческому документу”!
“За обедом между Николаем и Ка[териною] Степ[ановною] произошла какая-то вспышка, в которой Николай, по моему мнению, не виноват. Смотрю я, смотрю на сию… Катерину Степановну и никак не могу уяснить себе, что “оно” такое? По-своему добрая, довольно последовательная в том, что себе зарубит (упертая), и всячески бестолковая… Это тип малороссийской “жинки”, которая не боится своего “чоловша”. Особенно интересна она с своею манерой говорить “высоким слогом” и пускаться в рассуждения… Но тем не менее, в ней есть стороны, которых нельзя не уважать: она прекрасная (по-своему) мать, хорошая и заботливая хозяйка, что тоже не вздор; и потом она очень правдива…” (26 февраля 1871 года.)
Милый, не искушенный еще жизнью со всеми ее противоречиями, старовер и правдолюбец! После кромских, уманьских и киевских “дам”, чуждых многим интересам, женщины столичных литературно-артистических кругов были ему слишком новы, неожиданны, странны и непонятны.
Внешне провинциальные “жинки”, может быть, и больше считались со своими “чоловiками”. Но являлось ли это истинною панацеей супружеского благоденствия? Не подменялась ли в ней искренность житейскою сноровкой?
Отвергал он и власть соблазна, овладевающего человеком, исполненным речевого мастерства, безотступно подсказывающего всегда новую, блестящую импровизацию вместо безупречно достоверного, но и бесцветного доклада о том или ином событии. Здесь совершенно исключалась какая-нибудь “нужда” или “цель”. Здесь не было ничего, кроме неодолимо властного “влеченья духа”, неосилимой потребности обогатить фабулу, утончить узор, оживить расцветку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: