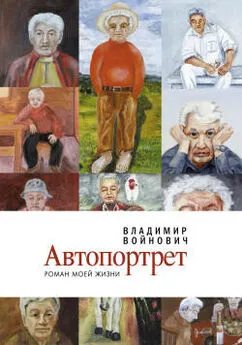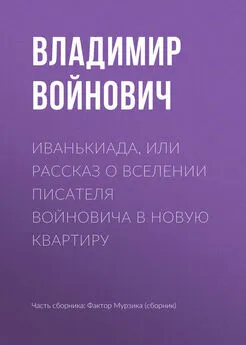Владимир Войнович - Автопортрет: Роман моей жизни
- Название:Автопортрет: Роман моей жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2010
- ISBN:978-5-699-39002-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Войнович - Автопортрет: Роман моей жизни краткое содержание
Новый сенсационный роман-мемуар Вл. Войновича «Автопортрет. Роман моей жизни!» Автор легендарной трилогии о солдате Иване Чонкине, талантливый художник-живописец, поэт, драматург, журналист и просто удивительно интересный человек — Вл. Войнович на страницах своей новой книги пишет не только о себе, но и о легендарном времени, в которое ему выпало жить.
Автопортрет: Роман моей жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Иногда к концу застолья Твардовский начинал плакать, переживая наступившую, как ему казалось, старость (а было ему, напоминаю, немного за пятьдесят). Утирал слезы ладонями, повторяя: «Я старик, я старик». Остальные вежливо выдерживали паузу, хотя некоторые из них (Сац, Дементьев, Марьямов) были постарше.
«Чтобы вас было жалко!»
Несмотря на влюбленность в Твардовского, коечто меня в нем удивляло. В частных разговорах он всегда ругал власть за бюрократизм, колхозы, бесполезное освоение целинных земель, управление культурой и в то же время проявлял к этой власти почтение даже тогда, когда этого не требовалось. Для него существовали две власти: просто власть, которую можно и должно ругать, и Советская, с большой буквы, которой следует неустанно присягать на верность. Например, исполнилось 60 лет Игорю Александровичу Сацу. Отмечаем в кабинете главного. Твардовский произносит первый тост — и предлагает выпить не за Саца, а «за нашу Советскую власть», которая к появлению на свет Саца была непричастна: он родился за пятнадцать лет до нее. Я был удивлен. Зачем Твардовский это говорит? Неужели он в самом деле эту власть так любит? Как можно любить власть, которая раскулачила, сослала в Сибирь его отца и старшего брата? Я не осуждал Твардовского, просто пытался понять, но мне это не удавалось. Раздвоенность сознания помогала ему до поры до времени существовать в относительном мире с советской системой, но разрушала его. Свои сомнения он, подобно Шолохову или Фадееву, глушил водкой, и чем дальше, тем чаще выпивки в кругу друзей заканчивались уходом в одинокий запой.
Я очень завидовал Твардовскому, что он пишет правду, но при этом такую правду (или не совсем правду, а то, во что сам верит), которую принимает власть. И поэтому уважаем властью, читателями и сам себя уважает. У меня такой гармонии не было. У меня не было ни малейшего намерения входить с властью в конфликт, но желание изображать жизнь, как она есть, было выше стремления к благополучию. Твардовский по складу своего характера и дарования был человеком государственным и мог писать искренне то, на что у меня не поднялась бы рука, вроде «из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд» или про возвращающегося из лагеря после многих лет старого друга:
Он всюду шел со мной по свету,
Всему причастен на земле.
По одному со мной билету,
Как равный гость, бывал в Кремле.
Многое из того, что писал Твардовский, мне было не враждебно, но чуждо. Однако за «Тёркина», за «Дом у дороги», за многие стихи я мог простить ему все.
Мне была близка нелюбовь Твардовского к проявлениям всякого пижонства или того, что ему и мне казалось пижонством. Ему не нравились стремления мужчин украшать себя крикливой одеждой, дорогими часами, перстнями, усами и бородами. Он ехидно расспрашивал Виктора Некрасова, как он заботится о своих усах: «Смотришь в зеркало, корчишь рожи, подстригаешь, подбриваешь, подравниваешь?» — «Да! — с вызовом отвечал Некрасов. — Смотрю в зеркало, корчу рожи, подстригаю, подбриваю, подравниваю!» Позже Твардовский неодобрительно относился к солженицынской бороде (обожая при этом ее носителя). Однажды мы закуривали, у него не оказалось спичек. Я небрежно чиркнул газовой зажигалкой. «Зажигалка?» — спросил он насмешливо, и я устыдился, как будто был уличен в чемто дурном. Он все еще ко мне хорошо относился и однажды стоя произнес тост: «Вот умирает писатель, и я думаю о нем: не жалко. Я хочу выпить за вас, чтобы, когда вы умрете, вас было жалко!» Я был польщен. И рассказал об этом тосте Камилу Икрамову. Камил ревновал меня к Твардовскому и злился. Ведь это он, Камил, открыл меня еще по самым первым моим стихам (которые, кстати сказать, Твардовский не оценил), но ему я верил недостаточно, его оценками не хвастался, а от слов Твардовского надуваюсь, как индюк. Рассказ о произнесенном тосте разозлил его особенно. «И тебе не стыдно это слушать? — сказал он мне. — Ты разве не понял, кого не жалко Твардовскому? Василия Семеновича Гроссмана!»
Я к Гроссману уже тогда, еще не читавши главных его поздних вещей («Жизнь и судьба», «Все течет»), относился с почтением. Но мне тем более было лестно, что Твардовский предполагает во мне возможность стать выше Гроссмана.
Позднее раскаяние Лакшина
Наши отношения стали портиться в начале 1962 года, когда я написал повесть «Кем я мог бы стать» с эпиграфом из австралийского поэта Генри Лоусона (перевод Никиты Разговорова): «Когда печаль и горе, и боль в груди моей, и день вчерашний черен, а завтрашний черней, находится немало любителей сказать: «Ах, жизнь его пропала, а кем он мог бы стать?» Богат и горд осанкой тот я, кем я не стал. Давно имеет в банке солидный капитал. Ему почет и слава и слава и почет, но мне та слава, право, никак не подойдет. Мой друг, мой друг надежный, тебе ль того не знать: всю жизнь я лез из кожи, чтобы не стать, о, Боже, тем, кем я мог бы стать». Эти стихи для эпиграфа длинноватые, но, будь их автором я, были бы моим автопортретом.
Я читал эту повесть вслух Игорю Сацу и Инне Шкунаевой. Им обоим повесть понравилась. И Камилу Икрамову, и Феликсу Светову. И Асе Берзер, которой я сдал рукопись. Ася отдала рукопись дальше, и дальше была заминка. Долго из редакции не было ни слуху ни духу, и вдруг мне показывают внутреннюю рецензию, написанную «самим». Отзыв кислый. Повесть слабая и несамостоятельная, написанная «под Бёлля», даже конкретно под «Бильярд в половине десятого». Я стал искать этот роман. Нашел, прочел, удивился. Да, вроде какое-то созвучие интонаций имеется, но кому докажешь, что я Бёлля прочел уже после написания повести?
Твардовскому повесть не понравилась, значит, не понравилась и большинству членов редколлегии. Про «Расстояние в полкилометра» уже все как будто забыли. И не помнят хитроумной надежды Твардовского, что чем вторая вещь будет слабее, тем легче будет напечатать ее вместе с первым рассказом.
Ася Берзер и Сац защищали меня, как могли. Об усилиях Игоря Александровича свидетельствует датированная концом ноября 1962 года дневниковая запись тогдашнего члена редколлегии Владимира Лакшина: «Я сам люблю его (Саца. — В.В .) всей душой и с тревогой замечаю маленькие пятнышки в наших отношениях, с тех пор как я пришел в «Новый мир». Может быть, тут отчасти и ревность к Александру Трифоновичу. Некрасов предупреждал меня когда-то, что Сац ревнив, как мавр. И не может себе представить, что его друзья встречаются где-то без него. А тут еще споры о новой повести Володи Войновича, которого он выпестовал. Повесть о прорабе не слишком удачная, со слабым концом. Но Игорь Александрович, его редактор, признать этого не хочет, язвит критиков Войновича и требует печатать повесть без переделок, как она есть. Володю, конечно, замучили всякими советами и замечаниями, но что делать, если повесть не удалась».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: