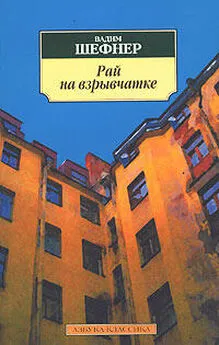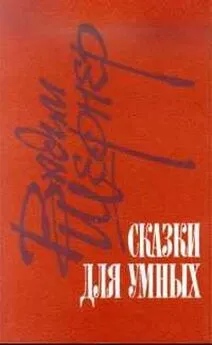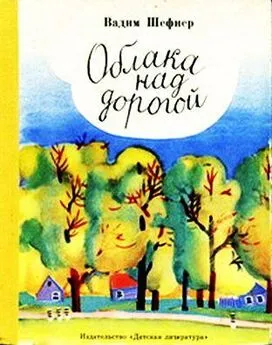Вадим Шефнер - Бархатный путь
- Название:Бархатный путь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Шефнер - Бархатный путь краткое содержание
Воспоминания ленинградского поэта и прозаика Вадима Шефнера
Бархатный путь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ждали гостей недобрых...
В конце 1934 года, после убийства Кирова, нахлынула волна репрессий. Коснулась она и дворян; их стали высылать из Ленинграда только за то, что они — бывшие дворяне. В газетах некоторые журналисты вовсю торжествовали по этому поводу, призывали к бдительности, славили Ежова, — он мол, всех кого надо возьмёт в ежовы рукавицы! Мать, тётя Вера и дядя Костя прониклись убеждением, что нашему семейству грозит беда и что нагрянет она скоро. Стали готовить чемоданы. Тревожно, невесело стало в нашей квартире.
У меня до сих пор хранится справка, выданная мне (не помню, для какой надобности) управдомом Бурлаковым 22 августа 1933 года. В ней сказано, что она «Дана гр-ну Шефнеру В.С. в том, что он проживает в д.N 17, кв.31 по 6 линии В.О. Соц. положение рабочий, в списках лишенцев не состоит». Мать утверждала, что благодаря этой справке меня никуда не вышлют, ведь я, выходит, — пролетарий. Но это было слабое утешение; я вовсе не собирался расставаться с матерью. И в то же время мне казалось, что без Питера для меня — не жизнь. Ведь та девушка, в которую я был прочно, но безнадёжно влюблён, останется в городе. И друзья мои тоже в нём останутся... В эти дни в памяти моей всё время прокручивалось стихотворение Брюсова «Демон самоубийства». Оно давно запало мне в душу своей убедительной трагичностью, но прежде я считал, что ко мне оно прямого отношения не имеет, а теперь мне стало чудиться, что оно — подсказка для меня. Может быть, жить мне не стоит? Помру — и тогда никаких тревог.
Эти свои летальные мысли я держал при себе, даже с самыми близкими друзьями не делился ими. Но однажды зашёл ко мне товарищ по школе Витька Тальников, и я почему-то раскрылся перед ним. Почему — сам не знаю. Особой дружбы у нас не было, встречались мы не так уж часто, а тут я вдруг разоткровенничался, поведал ему, что подумываю о своей самодеятельной кончине. Витька сделал шутовски-испуганное лицо, выпучил глаза — и сказал, что ему страшно за меня, но есть дела и пострашней. Ведь самое ужасное на свете — это пожар в бардаке во время наводнения! Затем он заявил, что я глуп, как бабий пуп, весело обругал меня всяческими печатными и непечатными словами — и ушёл, взяв у меня почитать (с возвратом под честное слово) томик Джека Лондона. И — странное дело — после этой беседы помирать мне уже не хотелось, на душе стало легче, мир стал светлее. Теперь я думаю, что начни Витька уговаривать меня не кончать с собой, начни он логически доказывать мне ненужность этого мероприятия, вряд ли сумел бы он пробудить во мне волю к жизни. Наверное, именно потому, что он так шутовски, так несерьёзно отнёсся к моей исповеди, он и меня убедил в несерьёзности, в нелепости моего печального замысла.
Вскоре выслали из Ленинграда двух наших знакомых, — за дворянство. Похоже, и к нашему семейству беда приближалась. Однажды, вернувшись с «Пролетария» с вечерней смены, я застал в своей комнатке мать и дядю Костю. Они жгли семейный архив; печка уже полна была бумажным пеплом. Печка в комнате моей была самая невзрачная в квартире, — в железной рубашке, без кафельной облицовки, но она никогда не дымила, в ней была очень хорошая тяга, поэтому и выбрали её для этого невесёлого дела. Жгли грамоты с восковыми печатями, всякие документы, письма... Все эти бумаги, попади они при обыске в чужие руки, могли повредить и дальним родственникам. и знакомым. Жгли и те манускрипты, которые просто не имело смысла брать с собой в ссылку неведомо куда, ведь там они рано или поздно пропадут, пойдут кому-нибудь на обёртку, а то и в сортире кто-нибудь будет ими подтираться, — так лучше сжечь их теперь, не дожидаясь всего этого.
Жгли не всё подряд, а выборочно. Часть семейных документов сохранилась, в том числе рукописная книжка, куда с 1728 года вписывали браки, крестины, рождения и кончины семьи фон-Линдстремов. Сохранились послужные списки, письма некоторые и довольно много фотографий. Всё это и в годы блокады не погибло, и теперь хранится у меня.
После этого аутодафе дни шли за днями в тревожном ожидании — вот-вот раздастся ночной звонок у двери в нашу квартиру. Потом волна высылок начала спадать. Нас не тронули. Миновала нас чаша сия.
Я — член литгруппы при «Смене»
Теперь, когда гляжу на себя былого-молодого из своего сегодняшнего дня, некоторые давние мои поступки и решения кажутся мне непонятными, логически необъяснимыми, а то и просто нелепыми. Воспоминания об этих поступках и решениях остались, вошли в мою жизнь, а побудительные причины забылись; быть может, они были столь ничтожны и случайны, что память их стыдливо отвела, отказалась хранить их. Ясно одно: в те годы мной всё время владело стремление к перемене мест. Не мест проживания, а мест работы.
В конце 1935 года я взял расчёт на «Пролетарии» и поступил на завод «Электроаппарат», стал сверловщиком. На работу приняли меня без помех, безработица уже ушла в былое, рабочих рук не хватало. Новую специальность освоил я довольно быстро, да и не мудрено: работать на радиально-сверлильном станке куда проще, чем, скажем, на токарном или на строгальном. Вот только долго не мог я научиться свёрла точить, и первое время их мне дежурный мастер затачивал. А тупились они быстро, да порой и ломались, в особенности когда приходилось сверлить немагнитное железо; оно очень крепкое.
Станок мой фирмы «Браун» на вид был очень мощным, монументальным, но были в цеху радильно-сверлильные станки и поменьше, получше, поновей. А про мой говорили, что он — дореволюционного выпуска, пора его в металлолом сдать. Но мне он пришёлся по душе: подумать только, — такая он махина, а я над ним властвую! Стоял мой «Браун» в самом конце цеха, в тупичке, так что мне виден был весь огромный зал. В три (или в два, точно не помню) ряда стояли там токарные и прочие станки, и над ними вращались валы, от которых тянулись к станкам приводные ремни. От работы трансмиссий по цеху шёл мелодичный шум — будто дождик идёт. У многих станков работали молодые женщины и девушки в синих спецовках, в плотно повязанных платочках. На лицах их было запечатлено трудовое внимание, отрешённость от всего второстепенного ради работы. Запомнились они мне своим индустриальным благородством — иного определения мне не подыскать. Нынче тема фабрично-заводского труда считается вроде бы исчерпанной, о нём писатели теперь почти и не пишут. Но я уверен, что тема эта ещё оживёт, её воскресит ход времени; появятся молодые талантливые поэты и прозаики, которые новыми словами воспоют труд рабочих и заново внушат читателям романтическое отношение к будничной, обыденной, нелёгкой работе на производстве. Ведь подлинное уважение к людям зиждется на уважении к их труду.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: