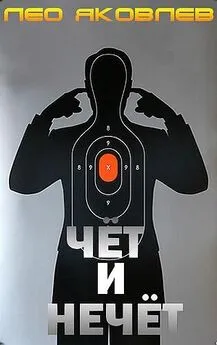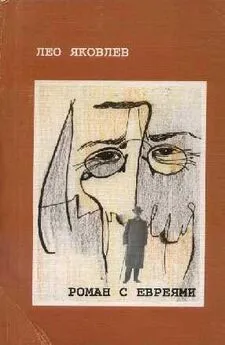Лео Яковлев - Чёт и нечёт
- Название:Чёт и нечёт
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лео Яковлев - Чёт и нечёт краткое содержание
Что касается содержания моего романа, то я заранее согласен с мнением любого читателя, поскольку все на свете можно толковать и так, и этак. Возможно, кто-нибудь воспользуется в отношении этого текста советом Джека Лондона и «оставит его недочитанным», если сможет, конечно. Я же, во всяком случае, старался сделать все, от меня зависящее, чтобы этого не произошло.
В то же время, две части этого романа по своему стилю не тождественны друг другу. Я столкнулся с теми же трудностями, что и Г. Манн в своей книге о славном короле Генрихе IV: книга о молодых годах моего героя получилась очень цельной, а о зрелых годах — фрагментарной. Это объяснимо: вселенная зрелого человека до определенного предела неуклонно расширяется, открывая ему все новые и новые области бытия. Описать все это во всех подробностях невозможно, да и, вероятно, не нужно, и чувство меры заставило меня превратить вторую часть романа в своего рода серию новелл и притч…
Чёт и нечёт - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В ответ мой друг Михаил, доцент и кандидат, бывший в то время секретарем специализированного ученого совета по защите кандидатских диссертаций, кратко и ярко набросал мне удручающую картину того, что тогда творилось в «советской науке». Не могу сказать, что его рассказ раскрыл мне глаза: многое я уже знал от Черняева, информация которого по части того, «кто есть ху», касалась самых высоких ступеней московской академической номенклатуры, что позволяло мне представить себе состояние дел в научных низах и в научной провинции. Следя по привычке за «развитием советской исторической науки», я собственными глазами увидел, как Советский Союз оказался впереди всей планеты по числу «научно остепененных историков»: первым секретарям нескольких тысяч райкомов партии их прислуга составляла диссертации на тему: «Становление Советской власти в таком-то районе (или волости)», вторым — на тему: «Роль большевистской партии в жизни такого-то района в годы Гражданской войны», третьим — на тему: «Колхозное строительство в таком-то районе в конце двадцатых годов» и так далее. В результате — весь набор районных секретарей империи Зла становился «кандидатами исторических наук». Секретарям области эти же «задачи» ученые холуи решали в масштабе такой-то области (или губернии) и такие «обобщающие» труды увенчивались званиями «докторов» исторических, философских или экономических наук. Так создавались «замечательные научные школы» и «новые направления в науке». Ну, а партийные руководители республик, пройдя по пути к занимаемым им местам все описанные выше ступени, становились академиками республиканских и союзных академий и, таким образом, выходили на «мировой научный уровень», осуществляли «научные контакты» с «зарубежными коллегами», почему-то принимавшими их всерьез, особенно после щедрых дружеских застолий.
Теперь мой друг убеждал меня, что такая же картина наблюдается и во всех прочих областях «советской науки», включая фундаментальные направления. Полагая, что меня в значительной мере беспокоит моральная сторона дела, он доказывал мне, что нравственный уровень богатого человека, желающего купить за свои, хоть и неизвестного происхождения, но все-таки личные деньги научную продукцию вместе с полным или неполным авторством, значительно выше, чем «моральный облик строителя коммунизма», который, после назначения его директором или начальником отдела в государственном научно-исследовательском институте, из «своих» младших научных сотрудников за их нищенскую казенную зарплату и за казенное же обещание их «продвинуть» выжимает для себя кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию, вписывает свою фамилию первой в их научные статьи и монографии, и на основании этих «своих» научных достижений становится членом-корреспондентом или академиком и «известным ученым» с «мировым именем», и имя таким «замечательным деятелям» — легион.
Он, естественно, зря старался: я и сам примерно так представлял себе положение дел в «советской науке», и не моральные устои меня сдерживали. Все было значительно проще — мне было лень начинать какое-то новое, не знакомое мне дело — мне уже шел пятый десяток! Кроме того, я надеялся, что мы с Ниной и с сыном с нашими довольно скромными запросами проживем на то, что нам приносят наши обычные труды и мои небольшие побочные заработки. На этом мы тогда и расстались, но всю дорогу домой я временами возвращался в мыслях к нашему разговору.
Ли продолжал:
— Прошло несколько месяцев, в течение которых мы побывали в отпуске, съездив на Кавказ. Эта поездка наглядно показала мне, как малы мои средства. Жизнь дорожала, и то, что вчера еще было нормой, сегодня попахивало нищетой. Поэтому, когда мой друг вызвал меня к себе на субботу и воскресенье для разговора с «интересным человеком», сказав, что расходы по этой поездке будут немедленно компенсированы, я отправился в путь, изменив своему правилу: субботу проводить дома. «Интересным человеком» оказался красивый молодой парень из Туркестана, сам он был кавказцем из рода, выселенного в Среднюю Азию еще во времена «раскулачивания», обжившегося там и смешавшегося с тюрками. Имя он имел русское, но в обиходе его звали Хаджи.
— Я ж тебя ждал неделю назад, — сказал ему мой друг. — Где ты задержался?
— Понимаешь, отец очень беспокоится: сумеет ли закончить институт мой младший брат — слишком весело он проводит время в Самарканде, и я заехал туда, встретился с нужными людьми, а они мне для успокоения отца выписали диплом брату вперед. Конечно, не даром, — сказал с легким акцентом Хаджи и показал задержавший его диплом.
Я взял в руки эти «корочки» и убедился в том, что впервые в жизни рассматриваю вполне законный, с подписями членов Государственной экзаменационной комиссии и ректората документ, помеченный днем, которому предстояло наступить через два с половиной месяца.
— Когда я его получил, — продолжал Хаджи, — я сразу позвонил отцу и только потом вылетел сюда.
Вид «будущего диплома» произвел на меня огромное впечатление. Напомню, что это еще были семидесятые годы, а не сегодняшний день, когда любой самый престижный диплом можно себе выписать за пару сот долларов у умельцев, промышляющих составлением фальшивых бумаг в московском или киевском метрополитене. Поэтому я уже безо всякого внутреннего и внешнего протеста принял участие в дальнейшем обсуждении научных надобностей нашего молодого среднеазиатского коллеги Хаджи, происходившем в гостиничном ресторане, а затем за уединенным столом с местными гейшами в двухкомнатном номере-«люкс».
Суть приезда Хаджи состояла в следующем: папаня, заведовавший в Туркестане богатым «совхозом», ему четко сказал, что если он, Хаджи, обзаведется любой научной степенью, тот ему немедленно купит место проректора в одном из высших учебных заведений в ближайшем областном центре. Мой друг был его единственным знакомым, связанным с вопросами оформления ученых степеней, и он прибыл к нему для переговоров. Проблема эта представлялась Хаджи столь же простой, как и выписка диплома младшему брату: цель своей поездки он видел в согласовании стоимости «кандидатских корочек», в выплате аванса и определении срока получения желаемого документа.
Мне и моему другу пришлось потратить немало сил, чтобы объяснить Хаджи, что тут дело не так просто, что нужно опубликовать две-три статьи, написать работу, представить ее в совет, получить рецензии, выступить на защите и т. п. Наконец он понял, и переговоры пошли в правильном направлении.
Я уже был к тому времени на чисто благотворительной основе «крестным отцом» по крайней мере двух диссертаций. Однажды в Тбилиси я обедал с двумя младшими научными сотрудниками местного научно-исследовательского института, и они мне пожаловались на свою творческую безысходность. Я поинтересовался, чем они заняты. Один из них — Гиви Косава — без конца давил железобетонные балочки, и я ему посоветовал ввести в эти балочки предварительное напряжение и, варьируя его величиной, посмотреть, как оно влияет на их динамические характеристики. Другой — Важа Рисидзе — был просто рабочей лошадкой и, дожив до седых висков, все мерял и мерял колебания конструкций. Я ему сказал, что и его перспективы не так плохи, и порекомендовал на основе того, что он уже наработал, решить обратную задачу — определить фактические величины динамических нагрузок, вызывающих эти колебания, и проанализировать, насколько они отличаются от теоретических значений.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: