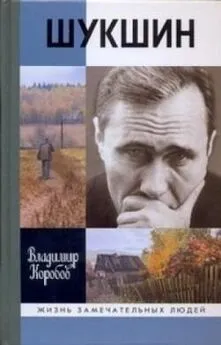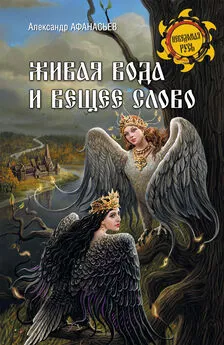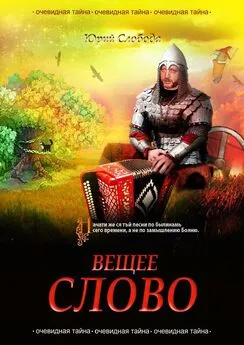Владимир Коробов - Василий Шукшин: Вещее слово
- Название:Василий Шукшин: Вещее слово
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Молодая Гвардия»6c45e1ee-f18d-102b-9810-fbae753fdc93
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03201-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Коробов - Василий Шукшин: Вещее слово краткое содержание
Книга о выдающемся актере, режиссере и писателе Василии Шукшине написана на основе большого документального материала и глубокого анализа литературных произведений оригинального прозаика, подарившего мировой литературе нового героя – причудливого мудреца, неудачника в обыденной жизни, мечтателя и своеобразного философа, обитающего в глубине народа.
Автор жизнеописания Владимир Коробов, как и его герой, прожил короткую, но яркую жизнь.
Василий Шукшин: Вещее слово - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эти чтения Шукшин, уже почти сорокалетний, назвал позднее праздником. И добавил: «Лучше пока не было».
…А как он обнимал, как целовал мать (это мне рассказывала сама Мария Сергеевна), когда ей удалось, по просьбе сына, достать через деревенского почтальона несколько довоенных однотомников русских писателей. Среди них были… Увы, кроме трилогии Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты» и, кажется, стихов Некрасова, мать Василия Макаровича назвать что—либо наверняка не решилась. Не будем и мы выводить это задним числом.
Учиться он стал вроде бы лучше, но, как говаривали в старинных романах, участь его была уже решена. Как ни билась из последних сил мать, как ни помогали родня и дети, а втроем было уже не прокормиться в лихую годину, тем более что корове Райке, кормилице их и поилице, прокололи вилами живот – за то только, что она, оставшись ненадолго без присмотра, пристроилась, видно, к чужому какому—то стожку (в родном доме запасов сена уже не было). [3]И единственное правильное материнское решение в такой ситуации было – отдать Василия «в люди».
Вместо учебы в седьмом классе он поехал за несколько сотен верст вверх по Чуйскому тракту в Онгудай, к дяде, учиться на бухгалтера. Но: «Насчет бухгалтера ничего не вышло: крестный отказался учить. Я очень этому обрадовался, потому что сам хотел сбежать домой… Почему—то я очень любил свою деревню. Пожил с месяц на стороне и прямо измучился: деревня снится, дом родной, мать… Тревожно на душе, нехорошо» (см. рассказ «Рыжий»). Седьмой класс он все—таки окончил, кое—как перебились, но это уже был в то время, так сказать, деревенский предел образования. К осени 1943 года не только мать, но и сына «обуяла другая мысль»: выучиться Василию на автомеханика. «Нас с мамой, – вспоминал потом Шукшин, – постоянно тревожила мысль: на кого бы мне выучиться?»
Осенью 1943 года он поступил в Бийский автомобильный техникум, но проучился там только года полтора или около того. Бросил учебу и вернулся в Сростки, доставив тем самым большое горе матери и сестре, вызвав тяжкие упреки родни и нередко злые насмешки односельчан. Многими, очень многими это воспринято было как позор, как окончательное свидетельство своенравия, никчемности и непутевости «Васьки Шукшина» (так, с таким ударением произносилась и сейчас произносится его фамилия земляками). Всегда, дескать, выкидывал он разные «штуки», и вот вам, пожалуйста, довыки—дывался, «обрадовал» родных…
Ведь что получается? Не до жиру – быть бы живу!.. Вроде вздохнули свободно: наконец—то при деле Васька, специальность получает, надежную, хлебную. К тому же хоть и негусто, а на всем готовом в городе живет – и питание там, и обмундирование. Уж это ли не благодать! А он, ты погляди только, что опять—то выкинул: «Не гля—а–нется это дело…» Ишь ты, какой ерш нашелся! Ну, не глянется и не глянется, и черт с тобой, а о других, о матери и сестре ты подумал? Как теперь прикажешь им жить, и без того—то концы с концами еле сводили… Не один поступал, все остальные учатся, и ничего, терпят, а ты, наверно, лоботрясничал там да хулиганил – вот и выгнали в три шеи; знаем, это ты родне заливай, что сам, мол, ушел, – выперли, и все тут!.. Иди теперь коровам хвосты крутить, «автомеханик», пастух с «образованием»…
Такая вот шла о нем молва.
Война закончилась, но легче жить не стало: все те же «палочки» в трудоднях и пустые полки в избе. Уже и лишнюю крошку боишься съесть – расти сестре, не болеть матери! – уже и в отчаяние от людского непонимания приходишь. Тем более что новая тема для пересудов появилась: «Васька—то Шукшин, слыхали, – „сочинять“ начал, курить нечего, а он бумагу переводит, писатель, мля…» И ничего—то никому не объяснишь толком, когда и сам еще ничегошеньки вроде не понимаешь. Так, блазнится чего—то, верится во что—то неведомое, нездешнее, удивительное. Того же Алешу Пешкова взять… Или не так? Мало ли, что в книжках пишут, не всему можно верить… А люди смеются. Ну и пусть смеются! На здоровье! Неизвестно еще, кто потом и над кем хохотать будет… Но уходить отсюда – надо, хоть и боязно, хоть и страшно, а надо. И чего здесь ждать – когда от голода вспухнешь и зубы на полку?.. Мать вот только жалко, хотя и не понимают они друг друга… Ну и ладно, посмотрим, надо уезжать… Но куда?..
Предстояло прощание с печкой. Всякий раз, когда Иван куда—нибудь уезжал далеко, мать заставляла его трижды поцеловать печь и сказать: «Матушка печь, как ты меня поила и кормила, так благослови в дорогу дальнюю…»
Шукшин. В профиль и анфас2. НАДЛОМ
Я начну с того, с чего начал и ты, – с мечты. Но тут мы сразу же и разойдемся: я не люблю мечтать. Я не верю мечте… Я не хочу, чтобы ты разучился мечтать… я только хочу, чтобы ты знал: к желанной цели тебя приведет не мечта, а разум и труд… Если бы тебя хоть сколько—нибудь мог убедить мой, например, жизненный опыт (я тоже – деревенский, жить начинал трудно, голодно, рано пошел работать), то он тоже в этом: главная сила на земле – разум и труд. Здесь не должно смущать, что это слишком уж просто: за этой простотой люди за тридевять земель ходят… Я не отвергаю мечты, но верую я все же в труд… И еще: я не доверяю красивым словам. Мечта слишком красивое слово.
Шукшин. Завидую тебе…… А мечта у него все—таки была, и было кому на первых порах подогреть в своих корыстных интересах этот бесхитростный, мальчишеский жар. Но жизнь недолго тешила юного мечтателя, явила ему вскоре и оборотную свою сторону, больно придавила его – настолько больно, что он возненавидел свою мечту и навсегда, думал, от нее отказался…
Двадцатого января 1978 года преподаватель политэкономии в Казанском университете Борис Никитчанов прислал мне большое письмо. В сущности даже не письмо, а воспоминания, в которых он сообщал факты необычайные, поверить в которые, особенно на первый взгляд, было никак нельзя.
Б. Никитчанов вспоминал послевоенную Казань, свою юношескую страсть к детекторным приемникам и пестрый огромный рынок тех лет – знаменитую Сорочку – шумливый базар, располагавшийся тогда на берегу озера Кабан. Сюда, в конце апреля 1946 года, моего корреспондента привело желание найти какие—нибудь радиодетали, а также учебники для начинающих радиолюбителей. Он довольно долго слонялся по Сорочке, наблюдал невольно различные веселые и грустные базарные сценки, пока не обнаружил вдруг, что и за ним наблюдают какие—то ребята, причем явно из числа шпаны, во множестве вертевшейся в рыночной толпе. Далее, в изложении Б. Никитчанова, события развивались так:
«„Напрасно, – думал я, – присматриваетесь, нет у меня ничего“. Но тут несколько рослых парней оттеснили меня от куч с проволокой и я очутился на краю площади.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: