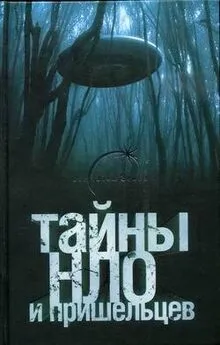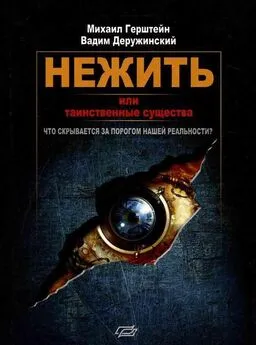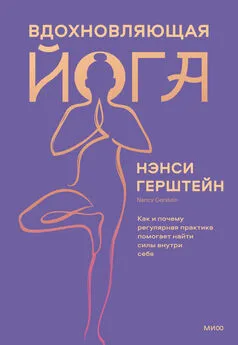Эмма Герштейн - Мемуары
- Название:Мемуары
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Инапресс
- Год:1998
- Город:СПб
- ISBN:5-87135-060-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эмма Герштейн - Мемуары краткое содержание
`Мемуары` выдающегося писателя и историка литературы Эммы Герштейн (1903г.р.) посвящены Осипу Мандельштаму, Анне Ахматовой, Борису Пастернаку, Льву Гумилеву, Николаю Харджиеву и другим литераторам и ученым, без которых мы не можем представить XX век русской культуры. Под полемическим пером Э.Герштейн возникают не только `картины литературного быта` Москвы и Ленинграда 20-60-х годов, полные драматизма, но и появляется ушедшая эпоха великих потрясений в своей трагической полноте.
Мемуары - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
7 апреля.
Спасает О. Э., у которого и с которым масса забот. Он чувствует себя ужасно плохо и выдумывает все болезни, не исключая, кажется, женских. Он просто ребенок. Подробно – расскажу устно. Забыть это нельзя… Сегодня водил О. Э. к профессору-терапевту. Тот ему
ничего толком не сказал, а дитя успокоилось. Вечер я сидел у Т. А. и Ко, а он, наверное, нервничал один. То ругает, то хвалит Иветту — и страшно гладко и быстро ее переводит, но скоро утомляется.
Я счастлив, что взял VIII т. Сумарокова. Еклоги — одно успокоение (именно они).— Пастушья любовь всегда по одной схеме… Мандельштам злится, а я в восторге.
8 апреля
Читал Осипу Эмильевичу Вагинова, он страшно протестовал против него, кроме последнего стихотворения [44] …последнего стихотворения — из сборника стихов К. Вагинова «Звукоподобие»: Норд-ост гнул пальмы, мушмулу, маслины И велингтонию, как деву, колебал, Ступеньки лестниц, словно пелерины, К плечам пришиты были скал. По берегу подземному блуждая, Я встретил соловья, он подражал, И статую из солнечного края Он голосом своим напоминал. Я вышел на балкон подземного жилища, Шел редкий снег, и плавала луна, И ветер бил студеным кнутовищем, Цветы и травы истязал. Я понял, что попал в Элизиум кристальный, Где нет печали, нет любви, Где отраженьем ледяным и дальним Качаются беззвучно соловьи. (Цит. по: День поэзии 1967. Л.: Советский писатель,[1967]. С. 78-79).
(про ветер, снег и умиранье соловья), которое ему чрезвычайно понравилось: «Вот это настоящие посмертные стихи».
Лика, даже страшно и жутко от огромности моих мыслей, от масштабов планов. Мандельштам сперва лез в бутылку («Что это, карманная история литературы?»). Но тут–то и начала вскрываться моя сила, его (как ни странно) консервативная беспомощность. В деталях я его бью его же стихами! Вот — речь о Сумарокове, которого он, в сущности, как и все, кроме меня и Гуковского, не знает. По моей концепции, Сумароков в атмосфере 60-х гг. XVIII в. по-своему аналогичен Гумилеву, т. е. работает не на речевых новшествах (как Хлебников или, условно говоря, Державин и фольклористы 70—80-х гг.), а на игре готовыми и прозрачно литературными элементами и приемами (романс, песни, эклоги, etc.). Мандельштаму это не ясно. А вот его стихи:
И вслед за тем, как жалкий Сумароков
Пролепетал заученную роль,
Как царский посох в скинии пророков,
У нас цвела торжественная боль [45] Из стихотворения О. Мандельштама 1914 года «Есть ценностей незыблемая скала».
Я говорю: «Видите, вы сами стиховно, правда, порицая Сумарокова в пользу Озерова, поняли его литературствующую роль. Теперь ясно, что это надо проверить лучше и увязать исторически». Ответ? Ясно.
9.IV. — Воронежский быт уже устойчив. В ожидании моего документного оформления, а следовательно, разговора о службе — живем «беззаботно», а именно так: часам к 12 я прихожу к М. (это от моего дома три хороших трамвайных остановки; причем третья остановка уже пригородная, за полотном ж. дор.). Там повторный чай после первого утреннего. Его перевод, мое чтение (вчера Языкова, которого он вместе с Батюшковым привез из Москвы; Языков 1833 года). На балкон выходим без пальто. Дерево, растущее рядом с балконом, наклоняет свои ветки, а на них огромные почки — из которых торчат зеленые, еще свернутые в трубку листы. Пока зелени нигде нет.
Потом идем гулять. Пешком до Петровского сквера (путь к моему дому). Там стоит идиотский Петр с простертой рукой; в другой руке якорь; у подножия еще якорь. М. зовет его Петр-якорник. Сад маленький, за ним спуск к реке, видна заречная часть; перед Петром неработающий фонтан. Из садика деловые походы М. с совместным походом на почту за моими письмами (если с вечера письмо запоздало — я захожу утром до М.). Походы к знакомым, в магазины, на телефонную станцию (его разговоры с Москвой). В середине дня обед. Иногда вместе, иногда раздельно, т. к. он ходит в диетическую столовую.
10.IV. — М. взял Современник и ранее всего кинулся на Степанова [46] …взял Современник… кинулся на Степанова…— В «Литературном современнике» за 1935г. в № 1 Н. Степанов в заметке «Углубление темы» (общее название статьи «Заметки о стихах») остановился на провинциальных претенциозных альманахах и сборниках стихов начала 20-х гг. Напечатанные там стихи, «написанные по всем правилам хорошего акмеистического или футуристического тона», по мнению Степанова, «отличались главным образом удивительной способностью их авторов "не заметить" время, в котором они жили». Эпиграфом «ко всей эпигонской поэзии, выраставшей на почве литературных реминисценций в распаде буржуазной дореволюционной поэзии», можно было поставить, согласно Степанову, «известное стихотворение О. Мандельштама "Я слово позабыл, что я хотел сказать"… о теме, потерявшей свою плоть и кровь». Касаясь далее стихов Мандельштама, где темой «являются вторичные и далекие ассоциации, лейтмотивом проходящие сквозь стихотворение», Степанов называет их «беспредметной лирикой».
, а у него и вообще-то вздор написан, да к тому же дважды и беззубо обруган М. (правда, период 20-го года). Он совсем скис. А от Тынянова пришел в раж от отвращения. Я его чуть-чуть понимаю: Тынянов — это языковая работа со старыми пластами (20— 30 гг.), а многим тут тесно и душно становится. М. — подобно мне — любит его малые вещи — Киже и Витушишникова [47] …Киже и Витушишникова — повести Ю. Н. Тынянова «Подпоручик Киже» (1928) и «Малолетний Витушишников» (1933).
. А тут с тетками, правда, понакручено. Но целиком мне доставь радость, а М. неугомонен.
Переводя Иветту, он разъярился окончательно и сказал бессмертную фразу: «Что французы? о чем можно говорить с французом? Это кошка, опоившаяся валерианом. У них один Мериме чего-нибудь стоит».
Далее вечером вышел с ним грандиозный разговор о моих стихах. Хуже, чем в Европейской гостинице. В чем дело?— Не понимаю. Он обо мне говорит с таким непониманием, как худшие читатели мира о нем самом. Единственная истинная истина, что 90% моих вещей о стихах и в узком литературном мире ассоциаций. Это (и мы согласны) близит нас с Вагиновым. Но дальше, прости, но вздор. Много блеска, ума, но все зря. Это сейчас говорит моя святая вера в себя. А он вроде барана — уперт. Поверить, что стихи плохи или даже далеки от его стихов, — немыслимо. Он меня «пугает» Тихоновым (что я на него похож). Если бы он был М., но не О. Э., или О. Э., но не М. — я его послал бы к лешему. А сейчас надо воспитать, обратить. Он меня дополнительно шлет к Ахматовой и… Пастернаку (вот за последнее спасибо?!).
13.IV. — Ждем № 3 Современника. В первых № № отчаянные стихи, которые ожесточенно читали вместе.
15.IV . — У М. день шел в ожидании телефонного разговора (Москва, с 4 до 6). Была перегружена линия, и ему не дали — он так изнервничался, что чуть с ума не сошел. К его счастью, удалось зайцем проскочить вечером, и он договорился. Приезд дам [48] Анны Андреевны Ахматовой и Надежды Яковлевны Мандельштам.
из Москвы еще отложен — теперь до 18.
Интервал:
Закладка: