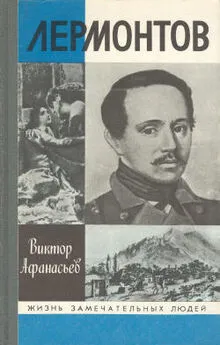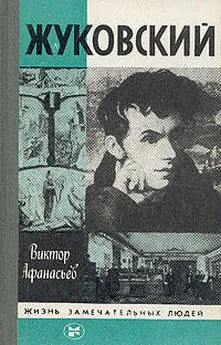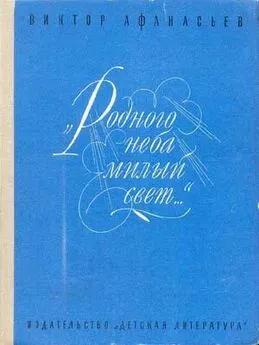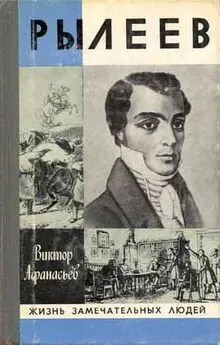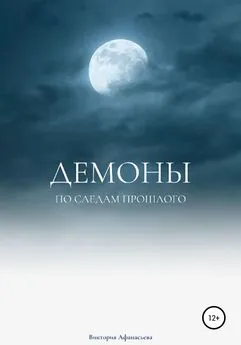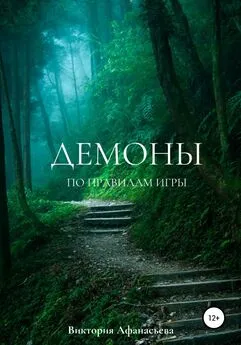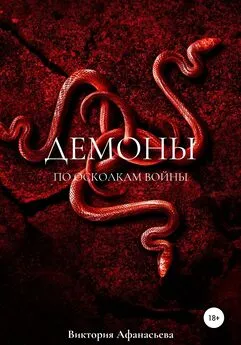Виктор Афанасьев - Лермонтов
- Название:Лермонтов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-235-01518-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Афанасьев - Лермонтов краткое содержание
Новая биография М. Ю. Лермонтова — во многом оригинальное исследование жизни и творчества великого русского поэта. Редакция сочла возможным сохранить в ней далеко не бесспорные, но безусловно, интересные авторские оценки лермонтовского наследия и суждения, не имеющие аналогов в практике отечественного лермонтоведения.
Лермонтов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
23 февраля было заведено «Дело по секретной части Министерства Военного департамента военных поселений, канцелярии 2-го стола № 22. По записке генерал-адъютанта графа Бенкендорфа о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии Гусарского полка Лермантовым и распространении оных губернским секретарем Раевским». Из названия этого дела видно, что оно должно было вестить начальством департамента военных поселений, то есть генерал-адъютантом графом Петром Андреевичем Клейнмихелем, директором его. Он же был и дежурным генералом Главного штаба, и Лермонтов, содержащийся там под арестом, подлежал его ведению. Бенкендорф отправил все бумаги — и оба объяснения — Клейнмихелю, с которым Раевский был вообще в большом раздоре по службе, надоел ему постоянным своим правдоискательством. Он рад был случаю расправиться со строптивым чиновником и сразу подал ходатайство о предании его военному суду, то есть более строгому. Его радовало то обстоятельство, что записки обвиняемых сильно противоречат друг другу, да еще эта неудачная попытка обмануть следствие.
Тем временем в одной из комнат верхнего этажа Главного штаба Лермонтов писал стихи. Ни бумаги, ни чернил ему не давали, но он попросил Андрея Ивановича заворачивать приносимый им обед в серую бумагу. А чернила? Открыв печную отдушину, Лермонтов нашел там богатейший запас сажи... Немного воды или вина — вот и прекрасные чернила. Спичкой писать не совсем удобно, а все-таки можно... Тихо здесь было, никто не мешал. На Дворцовой площади мела метель. Ангел мира на Александровской колонне вздымал крест в серые зимние тучи. Зимнего дворца почти не было видно во мгле. Неслышно проползали внизу экипажи. На окнах комнаты нет решеток, это не Шильон и даже не Петропавловская крепость, но все равно тюрьма. А он, Лермонтов, — узник.
«Солнце нашей поэзии закатилось...» Но в наступившей тьме поэзия продолжала жить.
Это не карцер училища... Это уже настоящая неволя! Не здесь ли, не в этой ли комнате помещался Грибоедов, когда его вызвали с Кавказа по делу декабристов? Что он тут делал? Скорее всего сочинял стихи, ведь он поэт... Чувствовал ли он, что ему так недолго оставалось жить?.. В первую же ночь, слушая шаги солдата, бродившего взад и вперед по коридору, Лермонтов подумал о декабристах, сидевших в сырых казематах, где иные пробыли многие годы... Потом мысль его как бы взвилась в высоту и оттуда, из мрачного поднебесья, увидела всю Россию... Сколько тюрем, сколько печальных темниц!.. Сколько бледных лиц глядит сквозь решетки... Написать бы поэму о русском узнике... и как он поет свою песню:
Отворите мне темницу,
Дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу,
Черногривого коня!..
Это начало стихотворения пятилетней давности... Дальнейшее Лермонтов повернул по-новому:
Я красавицу младую
Прежде сладко поцелую,
На коня потом вскачу,
В степь, как ветер, улечу.
Русский — песенный — добрый молодец, разбойник, Кирибеевич, удалец, против которого судьба ворогом пошла.
Но окно тюрьмы высоко,
Дверь тяжелая с замком...
Так Лермонтов приобщился к сонму русских узников, стал их певцом и соседом... Может быть, за стеной никого и не было, но иногда ему казалось, что там кто-то поет. И стена была не голого камня, а чисто оштукатуренная и ровно окрашенная в зеленый цвет, но все равно: «сырая стена». Одному — пропа́сть... А если за стеной живая душа, товарищ, хотя и неведомый, то и горе вполовину.
...чело склонив к сырой стене,
Я слушаю — и в мрачной тишине
Твои напевы раздаются.
О чем они — не знаю...
(А может быть, они о том, что «окно тюрьмы высоко...».)
...но тоской
Исполнены, и звуки чередой,
Как слезы, тихо льются, льются...
И лучших лет надежды и любовь
В груди моей всё оживают вновь,
И мысли далеко несутся,
И полон ум желаний и страстей,
И кровь кипит — и слёзы из очей,
Как звуки, друг за другом льются...
Звуки — как слезы, а слезы — как звуки... Так через стены душа говорит с душой — они понимают друг друга с полузвука. Это братство, какого не может быть на паркете гостиных. Тревога души (состояние нечистое), рожденная на этих паркетах, пропадает в «темнице сырой» так же, как и там, где «добрый конь» скачет, «хвост по ветру распустив».
Склоняется под ветром поспевающая рожь, шумит лес. Для ребенка эти нагретые солнцем пыльные дороги, ивы у воды, румяные плоды на дереве — счастье. Такое, ничем не смущаемое счастье принадлежит детству. А потом остается лишь память о нем, но и это — счастье. И когда взрослый человек в редкую минуту вырывается из суеты жизни, он видит в этих полях и садах свое детство, и в нем вспыхивает чувство чистое, религиозное. И если при этом слышится журчание ручья, плеск речной струи у берега, если прошумит ливень, пронизанный радугой, — счастье становится еще полнее, так как вода — таинственный символ перехода в иной мир, и хочется верить, что к своим близким, уже ушедшим, к ангелам и Богу.
Если даже не видеть и не слышать всего этого, а быть взаперти, под стражей, то оно может ярко вспыхнуть в воспоминании — это счастливое и такое редкое ощущение присутствия Бога в душе.
И снова идут в ход чернила из сажи:
Когда волнуется желтеющая нива
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зеленого листка...
Потом еще дважды «когда...» (о ландыше... о «студеном ключе», усыпляющем мысль «таинственной сагой»...), и нигде не поставлено точки, так как фраза продолжается, и наконец:
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога!..
Не стать счастливым, а только понять — постигнуть, — что такое счастье... И назвать его великим словом, поставленным в конце строки.
25 февраля последовало «высочайшее» решение, отнявшее у Клейнмихеля возможность раздуть дело так, чтобы упечь Раевского в Сибирь. Царь приказал перевести Лермонтова «за сочинение стихов» из лейб-гвардии Гусарского полка в Нижегородский драгунский, стоявший на Кавказе, а Раевского, «за распространение сих стихов, и в особенности за намерение тайно доставить сведение корнету Лермонтову о сделанном им показании» — на месяц под арест и выслать в Олонецкую губернию на службу (срок которой не указывался).
27-го военный министр граф Чернышов подписал приказ о переводе Лермонтова, и его отпустили домой под расписку — никуда не отлучаться без разрешения петербургского коменданта генерал-адъютанта Мартынова. Бабушка приехала за ним сама и даже поднялась на верхний этаж Главного штаба вместе с Андреем Соколовым, который собрал и унес вещи... И только теперь, по дороге домой, Лермонтов узнал от бабушки, что Раевский (это ей сказал Дубельт) действительно вовсе не был бы наказан, но царь рассердился на него за попытку передать тайно черновик показаний. Сверх того Клейнмихель чернил Раевского как только мог, аттестуя его «непокорным», не признающим авторитета старших по чину... Государь все-таки почувствовал, что тут есть какое-то личное пристрастие Клейнмихеля, поэтому и решил все дело сам и одним махом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: