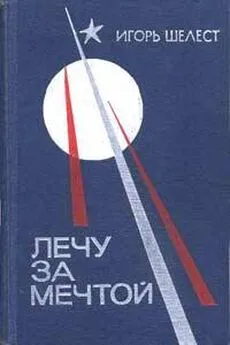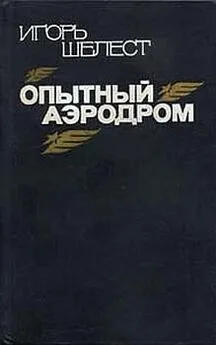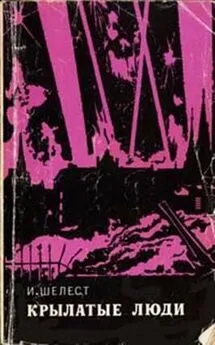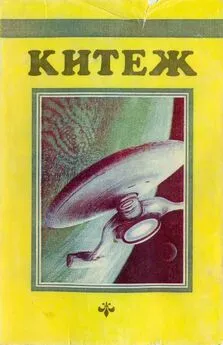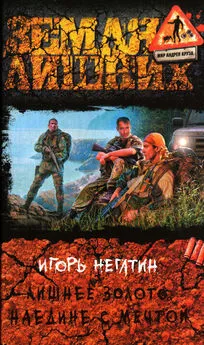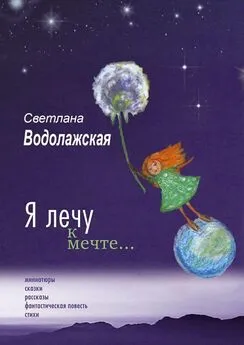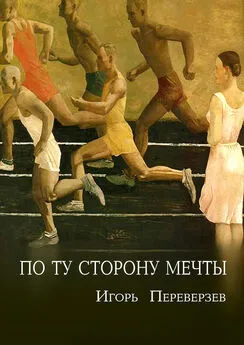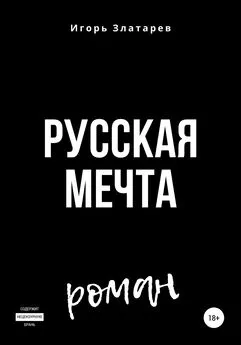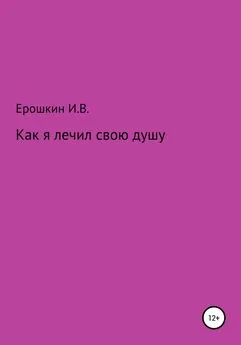Игорь Шелест - Лечу за мечтой
- Название:Лечу за мечтой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Шелест - Лечу за мечтой краткое содержание
Журнал "Молодая гвардия" не впервые публикует художественно-документальные произведения Игоря Ивановича Шелеста. Высокую оценку у читателей "Молодой гвардии" получила его повесть "С крыла на крыло" (№ 5 и 6, 1969).
"Чудесная книга о замечательных людях, — писал в своем отзыве Ю. Глаголев. — Здесь все живое, все настоящее, и книга притягивает к себе. Я по профессии педагог, имеющий дело с подрастающим поколением. К литературе у меня всегда один вопрос: чему учит молодых граждан то или иное произведение? В данном случае легко ответить — учит громадному творческому трудолюбию, порождающему мастерство, глубочайшей честности, выдержке в тяжелых случаях жизни".
И.Шелест сам летчик-испытатель первого класса, планерист-рекордсмен, мастер спорта. В своей новой повести "Лечу зa мечтой" он рисует основные моменты становления советской авиации, рассказывает о делах энтузиастов воздушного флота, их интересных судьбах и удивительных характерах. Будучи тонким психологом, исподволь, но точно приводит нас к мысли, что источником мужества, сильной воли летчика-испытателя являются его высокие нравственные качества.
Повесть И. Шелеста "Лечу за мечтой" отдельной книгой выйдет в издательстве ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия в ближайшее время.
Лечу за мечтой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Ванечка, ты верен себе. Хорошо, пусть перед тем, что ты мне потом расскажешь, это будет веткой сирени.
— Ветка сирени? Этой певице я готов преподнести целый автомобиль цветов!
— Боже! А мы треплемся, будто в наш век перевелись Дон-Кихоты…
Первый турбореактивный бомбардировщик со стреловидным крылом ТУ-16, прототип известного лайнера ТУ-104, испытывал в 1953 году у нас на Опытном аэродроме Николай Степанович Рыбко. Шунейко вслед за ним провел на этом самолете ряд очень важных двигательных исследований и прекрасно освоил машину.
ТУ-16 хорошо зарекомендовал себя в испытаниях, и к лету 1954 года один из авиазаводов наладил серийный выпуск этих самолетов.
Надо сказать, конструктор самолета Андрей Николаевич Туполев поначалу был не склонен применять на своих самолетах гидроусилительное управление. Да оно и не было тогда достаточно надежным. Поэтому Туполев рассуждал так: лучше иметь на самолете более тяжелое управление с обыкновенной трубчатой проводкой, чем вполне легкое — гидроусилительное, которое может в непредвиденный момент отказать.
Уж как там получилось — вы увидите сами, но в случае, который произошел при испытании одного из первых самолетов ТУ-16, оказалась повинна и нагруженность штурвала при большой скорости полета, и недостаточная степень освоения летным составом новой техники. А выявилось это следующим сенсационным образом.
28 сентября 1954 года старший летчик завода Молчанов получил задание выполнить испытательный полет на достижение предельной перегрузки. Он счел возможным совместить это задание с проверкой техники пилотирования молодого летчика Казакова. В силу последнего обстоятельства Молчанов как командир корабля и проверяющий не занял обычного левого кресла, а сел на место правого летчика. Казаков же оказался за левым штурвалом машины.
Они набрали 9 тысяч метров высоты, и Молчанов приказал Казакову приступить к выполнению задания.
Делая перегрузку при выводе из пике, Казаков потянул штурвал, машина пошла "на горку". Акселерометр показал 3,2. По заданию нужно было получить 3,47. Казаков подналег на штурвал, чтоб дотянуть упрямую стрелку акселерометра до заветных цифр, и тут вдруг почувствовал, что штурвал сам пошел к нему… Казаков быстро взглянул на командира:
— Ты зачем тянешь?
— Я не тяну, — удивился тот.
В этот момент машина сильно затряслась и пошла сама все круче вверх. Горизонт сразу исчез под ногами, и сквозь фонарь виднелась лишь бездонная синь неба.
Теперь уже оба летчика что было сил пытались отдать штурвал от себя, но он прижался к их животам и словно окаменел… Самолет же, пребывая как бы в конвульсиях, повалился на крыло, вошел в глубокую спираль и, постепенно разгоняясь, продолжал сам по себе «гнуть» чудовищную перегрузку. Вот тут Казаков и услышал первую фразу от командира:
— Экипаж, приготовиться к покиданию машины!
Казаков проговорил в ответ:
— Погоди, не торопись…
Но тут последовала исполнительная команда:
— Всем покинуть самолет!
Дальше события развернулись еще живее. Казаков успел боковым зрением заметить, как Молчанов, который сидел от него справа, схватил у себя над головой рычаг люка и сорвал его. В этот момент Казакова ошарашила декомпрессия. Командир, заторопившись, не разгерметизировал кабину постепенно. В силу мгновенной разгерметизации она, как туманом, наполнилась мельчайшей снежной пылью. На секунды ничего не стало видно ни в кабине, ни вне ее Самолет, по-видимому, страшно ревел с открытым люком, но Казаков почти ничего не слышал: от декомпрессии в ушах будто полопались барабанные перепонки.
Когда же Казаков пришел в себя и в кабине буйные завихрения разогнали по углам снежную пыль, он увидел, что командира рядом с ним нет, нет и его кресла. Над местом, где он только что сидел, зияла квадратная дыра…
Алексей Ильич Казаков был одним из первых выпускников школы летчиков-испытателей. Это было в 1945 году. Тогда школой руководил боевой генерал, только что вернувшийся с фронта, Михаил Васильевич Котельников.
К слову, этот выпуск дал стране таких замечательных летчиков-испытателей, как Юрий Тимофеевич Алашеев, Василий Архипович Комаров, Федор Иванович Бурцев, Дмитрий Васильевич Зюзин, Валентин Михайлович Волков… Все они в свое время были удостоены звания Героя Советского Союза, и это говорит само за себя. Но вернусь к Казакову, о котором начал рассказ. Тем более что именно Казаков в этой плеяде был удостоен звания Героя первым.
В войну Казаков работал инструктором в Борисоглебской школе, готовил для фронта летчиков-истребителей. Сам рвался не раз на фронт, но его работу в школе считали тогда более важной.
И действительно. Когда я познакомился с ним, сразу же подумал: "Он определенно пользовался любовью и авторитетом у своих учеников, умел и зажигать, и гасить их сердца".
Среднего роста, спокойный, уравновешенный и скромный русский человек. Когда я сказал ему, что, мол-де так уж обстоятельства сложились в его нашумевшем тогда полете. «Расклад» оказался в его пользу, помимо всех его самых разумных и мужественных действий. Мне хотелось оценить сразу же его, и я затеял, пожалуй, чересчур смело этот разговор. Так и сказал ему:
— Алексей Ильич, говоря откровенно, вы не находите, что обстоятельства вам содействовали стать Героем?
Мы сидели с ним на скамейке в парке госпиталя, где он проходил очередное освидетельствование на предмет годности к летной работе. Поверх костюмов на нас были белые халаты. Я неотрывно смотрел ему в глаза, он не менее старательно стремился проникнуть в мои мысли. Когда он выслушал мою задиристую фразу, теплота его добрых карих глаз нисколько не потухла. Я решил пояснить:
— Видите ли… Я так говорю, совсем не желая вас обидеть. Но, переговорив с друзьями и поразмыслив, не могу не прийти к выводу, что вы должны были именно так действовать, и не иначе; и времени было достаточно: ничего еще не было предпринято, прежде чем прыгать.
Он сказал:
— Совершенно верно, я сам всем так говорю: ничего особенного не сделал, чтобы стать Героем… Не возражал, конечно, что присвоили мне это высокое звание, но всегда думал, что сделал так, как сделал бы почти каждый летчик-испытатель.
Сказал он это без тени кокетства, очень просто и убежденно, и я не только утвердился в своем первоначальном впечатлении о нем как о скромном человеке, но и как о несомненном герое.
Очевидно, я это выдал на лице, потому что он тут же благодарно улыбнулся. Словом, обстановка нашего разговора стала еще более теплой. Мне, конечно, хотелось побольше разузнать о командире корабля Молчанове, так торопливо тогда покинувшем машину.
— Он был 1918 года рождения, — ответил Алексей Ильич. — Занимал у нас на заводе пост помощника начальника летной части, отчего сам летал редко… А заторопился потому, — оживился вдруг мой собеседник, — потому что… очень жить хотел!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: