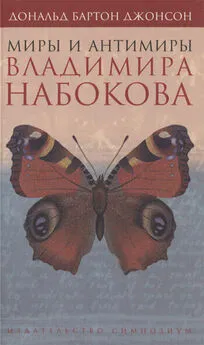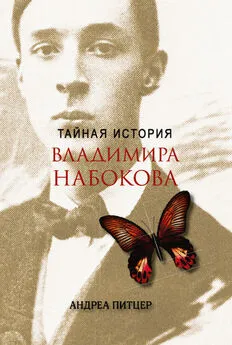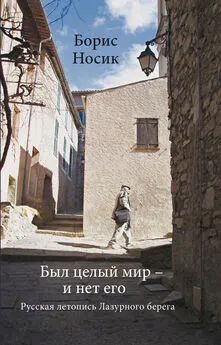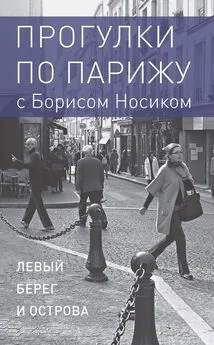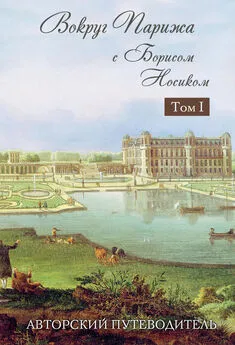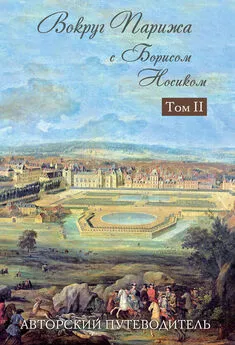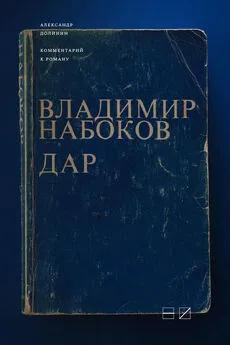Борис Носик - Мир и Дар Владимира Набокова
- Название:Мир и Дар Владимира Набокова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Пенаты
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-7480-0012-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Носик - Мир и Дар Владимира Набокова краткое содержание
Книга «Мир и дар Владимира Набокова» является первой русской биографией писателя.
Мир и Дар Владимира Набокова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Война, наконец, закончилась, и Набоков получил из Европы грустные известия. Младший брат Кирилл, служивший переводчиком у американцев в Западной Германии, отыскал Набокова через журнал «Нью-Йоркер», в котором увидел один из его рассказов. От Кирилла Набоков и узнал о гибели брата Сергея в немецкой тюрьме. Говорили, что Сергей пострадал за свои «англо-саксонские симпатии», однако никто ничего не знал толком. В печах нацистских крематориев сгорели не только И. Фондаминский, но и мать Мария, и Юрий Фельзен, и веселый кудрявый Миша Горлин, и жена его Рая Блох, и вдова Ходасевича Ольга Марголина, и еще многие друзья. Набоков написал в Прагу Евгении Константиновне Гофельд, которая была лучшей подругой Елены Рукавишниковой в последние два десятилетия ее жизни, и в октябре 1945 года получил письмо от любимой сестры Елены (в замужестве Сикорской), по-прежнему жившей в Праге. Она рассказывала о страшных годах оккупации, о пражском восстании, о приходе русских и «отъезде» многих эмигрантов «на дачу» (в советские лагеря):
«Прожили мы жуткие дни. Я все время с тех пор вспоминаю милого Цинцинната. Я видела и булочников, жонглирующих французскими булками, и розы в стаканах на приеме в ратуше. Милый, милый Цинциннат!»
В конце октября Набоков написал сестре первое письмо. Он сообщал о себе:
«Полысел, потолстел, обзавелся чудными фальшивыми зубами — но внутри осталась все та же прямая как стрела аллея. Лучшее, что я написал в смысле стихов… я написал здесь… Теперь перепахиваю очень большую и довольно чудовищную штуку. Четыре дня в неделю (вот уже четвертый год) провожу за микроскопом в моей изумительной энтомологической лаборатории, исследуя трогательнейшие органы. Я описал несколько видов бабочек, один из которых поймал сам, в совершенно баснословном ущелье, в горах Аризоны. В некотором смысле тут воплотились (чуть-чуть косоватенько, но с редкой четкостью) мои заветнейшие „даровые“ мечты.
…Семейная жизнь моя совершенно безоблачна. Страну эту я люблю… Наряду с провалами в дикую пошлость, тут есть вершины, на которых можно устроить прекрасные пикники с „понимающими“ друзьями… Весть о Сереже меня особенно потрясла… Если бы моя ненависть к немцам могла увеличиться (но она достигла пределов), то она бы еще разрослась».
Среди писем Набокова в тот год было, между прочим, и коротенькое декабрьское письмо преподобному Гардинеру Дэю с возражением против того, чтоб его сын участвовал в сборе одежды для немецких детей. Поскольку страна не может одеть и детей своих союзников, и детей врагов, то начинать надо, по мнению Набокова, с детей союзников — с греческих, чешских, французских, бельгийских, китайских, голландских, норвежских, русских, еврейских детей, и только потом уж дойдет очередь до немецких. А когда американский военный журнал захотел купить права на «Зловещий уклон» для перевода его на немецкий в целях перевоспитания немцев, Вера, отвечая за мужа, выразила сомнение в возможности такого перевоспитания, объяснив попутно, что воображаемая диктатура в романе содержит черты и нацизма и коммунизма, а также тоталитарные черты нетоталитарных режимов.
Переписка Набокова с сестрой была в первое время очень оживленной, затухая понемногу в последующие годы. В письмах Набокова — много о его работе, о бабочках, о сыне, картинки семейной жизни. Вот супруги Набоковы смотрят в окно — одиннадцатилетний Митя уходит в школу: «Он шагает к углу, очень стройненький, в сером костюме, в красноватой жокейской фуражке, с зеленым мешком (для книг), перекинутым через плечо». Охотно пишет Набоков и о работе в лаборатории:
«Работа моя упоительная, но утомляет меня вконец, я себе испортил глаза, ношу роговые очки. Знать, что орган, который рассматриваешь, никто до тебя не видел, прослеживать соотношения, которые никому до тебя не приходили в голову, погружаться в дивный хрустальный мир микроскопа, где царствует тишина, ограниченная собственным горизонтом, ослепительно белая арена — все это так завлекательно, что и сказать не могу (в некотором смысле в „Даре“ я „предсказал“ свою судьбу, этот уход в энтомологию)».
Он описывает свои еженедельные, утомительные, с тремя пересадками путешествия в Уэлсли, где «чудное озеро, бесконечные цветники, муравчатые луга, плющ на деревьях, замечательная библиотека и т. д.».
Американская жизнь Набокова предстает в этих письмах как довольно мирная, идиллическая. Иногда, впрочем, воспоминания о том, что произошло, да и сейчас происходит в мире, исторгают у него настоящий крик боли:
«Митюшенька великолепно учился в этом году, получил приз по латыни. Душка моя, как ни хочется спрятаться в свою башенку из слоновой кости, есть вещи, которые язвят слишком глубоко, например, немецкие мерзости, сжигание детей в печах — детей, столь же упоительно забавных и любимых, как наши дети. Я ухожу в себя, но там нахожу такую ненависть к немцу, к конц. лагерю, ко всякому тиранству, что как убежище се n'est pas grand'chose» [26] Не Бог весть как много (фр.).
.
Ненависть к фашизму и, к глубокому сожалению, также и к немцам как народу (чувство, на наш взгляд, недостойное интеллигента), а также любовь к сыну и страх за него с большой силой выражены во многих произведениях того времени — в рассказах «Разговоры» и «Ланс», в романе «Зловещий уклон», позднее и в «Бледном огне».
При чтении этих вполне интимных писем Набокова к сестре испытываешь противоречивые чувства. После смерти Елены Рукавишниковой, растившей Ольгиного сына Ростислава (Ростика), мальчик остался на попечении старенькой и нищей Евгении Константиновны Гофельд, которая частными уроками и прогулками с чужим ребенком не зарабатывала и 400 крон в месяц. Елена добавляла сколько могла. Теперь она обратилась за помощью к американскому брату. Набоков написал, что он смог бы высылать 15–20 долларов в месяц. Елена с достойной твердостью посоветовала ему высылать 20–25, и Набоков согласился, однако, как только у Ростика появилась служба, спросил в очередном письме, можно ли ему посылать 20 долларов вместо 25, так как 25 обременительно. Американцы, которым я это письмо показывал, находили, что все здесь о'кей, русские приходили в ярость. Елена Сикорская на мой вопрос об этом пожала плечами и сказала о любимом брате, что «в общем, он мог бы жить один со своей работой», т. е. был все-таки индивидуалист…
В 1945 году произошло два события: Набоков бросил курить и получил американское гражданство. Его поручитель Михаил Карпович, предупредив Набокова, чтоб он вел себя с серьезностью на экзамене по английскому, сопровождающем обычно процедуру получения гражданства, остался ждать за дверью. Чиновник-экзаменатор дал Набокову для перевода фразу о ребенке (ту самую, что вошла потом в роман «Зловещий уклон»): «ребенок храбр». Набоков высказал предположение, что ребенок мог быть и лысым (созвучие «боулд» — «болд»). Чиновник настаивал, что ребенок все-таки храбр. Набоков мягко возразил, что волос у младенцев тоже иногда совсем мало. Внимательно обдумав это соображение, чиновник разразился хохотом, и оба они долго еще острили на эту тему, а Карпович обмирал за дверью от страха, думая, что все рухнуло…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: