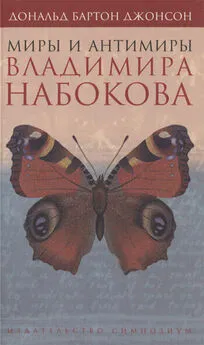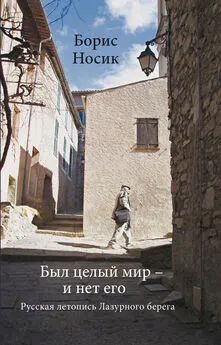Борис Носик - Мир и Дар Владимира Набокова
- Название:Мир и Дар Владимира Набокова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Пенаты
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-7480-0012-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Носик - Мир и Дар Владимира Набокова краткое содержание
Книга «Мир и дар Владимира Набокова» является первой русской биографией писателя.
Мир и Дар Владимира Набокова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Его исследования давно вошли в ту блаженную стадию, когда поиски перерастают заданную цель и когда начинает формироваться новый организм, как бы паразит на созревающем плоде. Пнин упорно отвращал свой мысленный взгляд от конца работы, который был виден уже так ясно, что можно было различить ракету типографской звездочки… Приходилось остерегаться этой полоски земли, гибельной для всего, что длит радость бесконечного приближения. Карточки мало-помалу отягчали своей плотной массой картонку от обуви. Сличение двух преданий; драгоценная подробность поведения или одежды; ссылка, проверив которую, он обнаружил неточность, которая явилась следствием неосведомленности, небрежности или подлога; все эти бесчисленные триумфы bezkoristniy (бескорыстной, самоотверженной) учености — они развратили Пнина, они превратили его в опьяненного сносками ликующего маньяка, что распугивает моль в скучном томе толщиной в полметра, чтоб отыскать там ссылку на другой, еще более скучный том».
Набоковы снова проводили лето в Скалистых Горах. Сперва они снимали домик в Южной Юте, или в Ютахе, как по-русски называл этот штат Набоков. Там отец с сыном закончили перевод «Героя нашего времени» и отправили его в издательство «Даблдей».
«Розоватые, терракотовые и лиловые горы создавали фон, созвучный кавказским горам Лермонтова из „Героя нашего времени“», — писал Набоков в письме Уилсону. Двадцатилетний Лермонтов был автором весьма родственным для его эмигрантского собрата, и набоковеды подметили, что даже предисловие, которым Набоков снабдил свой с Митей перевод «Героя нашего времени», было в известном смысле тенью того предисловия, что Лермонтов предпослал своему роману: «та же полемичность при отстаивании своего кредо, тот же иронический тон в отношении читателя». Суждения Набокова о литературе во многом совпадали с лермонтовскими взглядами. Предисловие Набокова к переводу «Героя нашего времени» не только анализировало «спиральную композицию» знаменитого романа и давало высокую оценку «исключительной энергии повествования и замечательному ритму лермонтовской прозы» — оно знакомило с набоковскими принципами перевода, в которых он утвердился сравнительно недавно — с принципами так называемого «честного переводчика»:
«Начнем с того, что следует раз и навсегда отказаться от расхожего мнения, будто перевод „должен легко читаться“ и „не должен производить впечатление перевода“ (этих комплиментов критик-пурист, который никогда не читал и не прочтет подлинника, удостоит любой бледный пересказ). Если на то пошло, всякий перевод, не производящий впечатления перевода, при ближайшем рассмотрении непременно окажется неточным, тогда как единственным достоинством добротного перевода следует считать его верность и адекватность оригиналу».
Как видите, Набоков здесь тоже употребляет термин, который так любят наши современные русские переводчики, однако мои русские коллеги имеют при этом в виду адекватность не только содержания, смысла, «общей идеи», но и адекватность художественного воздействия — во всяком случае максимально возможное приближение к такому воздействию. Читая же предисловие Набокова, мы скоро убеждаемся, что под «адекватностью» он, в сущности, понимает лишь смысловую «точность». Он сообщает, что «с готовностью принес в жертву требованиям точности… хороший вкус, красоту слога и даже грамматику…». Желая, вероятно, оправдать эти жертвы, Набоков объясняет, сколь далека проза Лермонтова от изящества, и утверждает, что «общее впечатление возникает благодаря чудесной гармонии всех частей и частностей в романе». Однако как достичь этой «чудесной гармонии… частностей», пренебрегая вкусом и красотой слога, Набоков не объясняет. Остается надеяться, что его практика будет противоречить его теории. Ибо вкус и красота слога в переводе куда важней, чем соответствие любой теории, а почему нужно жертвовать грамматикой, и вовсе непонятно. Ведь даже начинающий переводчик знает: перевод, погрешающий против вкуса, слога и грамматики, оказывается при ближайшем рассмотрении неточным.
С пушкинским романом в стихах дело теперь обстояло еще сложнее. Набоков еще недавно создавал великолепные поэтические переводы на английский из Пушкина, Тютчева и других русских поэтов, а раньше переводил на русский Р. Брука, А. Рембо или, к примеру, «Декабрьскую ночь» А. Мюссе. Этот последний перевод наш замечательный ученый С.С. Аверинцев, выражаясь, в порядке исключения, почти «не научно», назвал не только редкой удачей, но и почти идеальным образцом того, чем должен быть на пределе своих возможностей художественный перевод. Точнее — чудом. Вот небольшой отрывок из набоковского Мюссе:
В мое пятнадцатое лето
по вереску в дубраве где-то
однажды брел я наугад;
прошел и сел в тени древесной
весь в черном юноша безвестный,
похожий на меня, как брат.
…Друг, мы дети единого лона.
Я не ангел, к тебе благосклонный,
и не злая судьбина людей.
Я иду за любимыми следом,
но, увы, мне их выбор неведом,
мне чужда суета их путей.
Так переводил юный Набоков. И вот теперь, через много десятилетий после того, как сам он дал столько образцов стиха, близкого к онегинской строфе, Набоков перелагает «Евгения Онегина» «подстрочником», а в эпиграфе к предисловию бросает вызов самому Пушкину, солидаризируясь с Шатобрианом. Набоков выносит в эпиграф строки из критического отзыва Пушкина о шатобриановском переводе Мильтона:
«Ныне (пример неслыханный!) первый из французских писателей переводит Мильтона слово в слово, и объявляет, что подстрочный перевод был бы верхом его искусства, если б только оный был возможен!»
Что привело на шестом десятке лет нашего знаменитого поэта и переводчика («первого из французских писателей» — тоже ведь не случайно выбрана фраза) к отказу от поэтического (да и прозаического тоже) перевода? Отчаяние, отхватившее его при чтении несовершенных переводов русской литературы на английский и французский языки? Полемический задор? Страх перед будущими переводчиками его собственных произведений? Усталость?..
И ныне замечаю с грустью,
что солнце меркнет в камышах,
и рябь чешуйчатее к устью,
и шум морской уже в ушах.
Эти русские стихи Набокова вошли в его подборку из семи стихотворений, напечатанную в тот год «Новым журналом». В противовес гимну «точности» и «смысла», содержащемуся в предисловии к роману Лермонтова, в новых стихах он согласен на «ничью» между музыкой стиха (которой только что призывал жертвовать в переводах) и «смыслом»:
…удовлетворяюсь, стало быть,
ничьей меж смыслом и смычком.
Интервал:
Закладка: