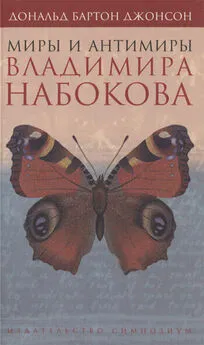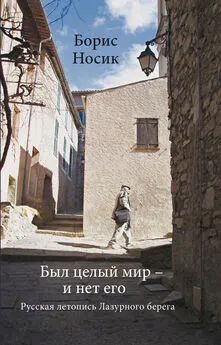Борис Носик - Мир и Дар Владимира Набокова
- Название:Мир и Дар Владимира Набокова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Пенаты
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-7480-0012-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Носик - Мир и Дар Владимира Набокова краткое содержание
Книга «Мир и дар Владимира Набокова» является первой русской биографией писателя.
Мир и Дар Владимира Набокова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пародия в этом романе Набокова становится одним из важнейших приемов, а многие страницы кишат сравнениями из литературной жизни.
Обоснованны ли художественные претензии героя романа? В искусстве (ибо он рассматривал преступление как акт искусства) он потерпел полный крах. Жизнь оказалась намного изобретательней его (как она оказалась изобретательней жены Дрейера Марты), и ошибся герой в главном — в установлении идентичности своего облика с наружностью бродяги. Ленивый художник (но при этом счастливый соперник) Ардалион заявляет, что лицо человека уникально, что вообще не может быть двух одинаковых лиц. А изобретательная жизнь после первых коварных намеков (скажем, забытая Ардалионом в машине бутылка водки) подстраивает герою более серьезную каверзу — полиция нашла палку бродяги, оставленную им в машине (вот тебе еще одно несовершенство твоего произведения искусства, задуманного как шедевр). С литературой обстоит еще хуже. По пути к тотальной неудаче героя Набоков рассовывает кое-какие ловушки: например, заметы «фотографической» памяти Германа весьма неточны. Еще важней другое. Чему служит это употребление приемов искусства? Тому, чтобы только показать себя? Герой «Отчаяния» эгоцентричен и нарциссичен, а в английском переводе есть и особая вставка о Нарциссе, которому жизнь может помешать любоваться недвижным лицом двойника (зато в смерти он будет служить идеальным отраженьем). Самовлюбленность не дает герою возможности шагнуть за пределы своего «я», войти в жизнь других людей, вообразить чужую боль, чужую жизнь, а без этого нет искусства, без этого искусство аморально. В начале седьмой главы романа мы обнаруживаем как бы эпиграф (позднее Берберова будет говорить о «растворенном эпиграфе» у Набокова): «Во-первых, эпиграф, но не к этой главе, а так, вообще: литература — это любовь к людям». Случайны ли эти строки у Набокова? Уж не оговорка ли это? Нет, конечно. Четверть века спустя Набоков в открытую заявит в послесловии к «Лолите», что для него роман или рассказ существует лишь постольку, поскольку доставляет эстетическое наслаждение, а это и есть то «особое состояние, когда чувствуешь себя — как-то, где-то, чем-то — связанным с другими формами бытия, где искусство (т. е. любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма». Может, Набоков и воздержался бы от этой последней, столь открытой декларации, если бы не дружный хор обвинений в аморализме, раздавшийся после выхода «Лолиты». Нет худа без добра: мы получили из первых рук формулу морали в его искусстве. А еще через десять лет (то есть через добрых сорок лет после выхода «Отчаяния») Набоков сказал заезжему баварскому журналисту:
«Я уверен, что когда-нибудь явится переоценщик и объявит, что, не являясь ни в коей мере легкомысленной жар-птичкой, я был строгий моралист, разивший порок, бичевавший тупость, высмеивавший вульгарность и жестокость — а верховное главенство вручавший нежности, таланту и гордости».
Итак, Герман оттого в первую очередь не художник и не писатель, что он целиком сосредоточен на себе, что он Нарцисс. Что он не видит других (оттого и не разглядел «различия», которые в искусстве важнее сходства), не слышит крика их боли. Именно поэтому он не художник, а обыкновенный преступник. Так что «Отчаяние» — это в первую очередь роман об искусстве, о его отношениях с действительностью. Художник знает, как велик разрыв между желанием и действительностью, преступник этого может и не знать. Сменив личину, Герман хотел начать другую жизнь за гранью той жизни, которую он собрался перешагнуть. «Но ради чего?» — вопрошает Б. Бойд. И приходит к выводу, что цели Германа оказались банальными, так же, как и его методы. То, что «Отчаяние» — роман о творчестве (притом роман «наиболее близкий к ядру его творчества»), разглядели еще до войны русские критики. Зато этого не сумел разглядеть (глядя на роман с одной единственной стороны — со стороны «слов») прославленный Ж.-П. Сартр. О новом романе Набокова подробно писали вскоре после его выхода В. Вейдле и В. Ходасевич. По Владимиру Вейдле, смысл «Отчаяния» сводится «к сложному иносказанию, за которым кроется не отчаяние корыстного убийцы, а отчаяние творца, неспособного поверить в предмет своего творчества. Это отчаяние и составляет предмет лучших сиринских творений. Оно роднит его с самым показательным, что есть в современной европейской литературе, и оно же дает ему в русской литературе то место, которое кроме него некому занять… этой черты достаточно, чтобы запретить нам относиться к Сирину всего лишь как к неотразимому виртуозу, все равно придаем ли мы этому слову порицающий или хвалебный смысл».
Еще раньше о том же сказал чуткий Ходасевич. Отметив что герой «Соглядатая» оказался не творцом, а шарлатаном отчего «и перехода из одного мира в другой в его истории нет», Ходасевич говорит, что эта тема, намеченная в «Соглядатае», становится «центральной в „Отчаянии“, одном из лучших романов Сирина». Ходасевич считает героя «Отчаяния» художником подлинным, строгим к себе.
«Он погибает от единой ошибки, от единого промаха, допущенного в произведении, поглотившем все его творческие силы. В процессе творчества он допускал, что публика, человечество может не понять и не оценить его создания, — и готов был гордо страдать от непризнанности. До отчаяния его доводит, что в провале оказывается виновен он сам, потому что он только талант, а не гений».
Итак, на более глубоком уровне прочтения «криминальный» роман Набокова предстает еще более сложным, чем «криминальные» романы так бурно им отталкиваемого Достоевского. Все эти сложности романа обнаруживаются мало-помалу при внимательном чтении из-под толщи довольно сложного его построения. Сложен и сам рассказ от первого лица при полной ненадежности субъективного и эгоцентричного рассказчика (так уже было в «Соглядатае» и будет у Набокова еще не раз). Мы с вами простодушно следуем за рассказчиком и оказываемся обмануты во всем: и жена-то ему не верна, и двойник на него не похож, не двойник он вовсе, и преступление его не гениально (и не оригинально). Однако рассказчик неистов, параноически настойчив («желаю во что бы то ни стало, и я этого добьюсь, убедить всех вас, заставить вас, негодяев, убедиться…»). И вот, поверив, мы с вами оказались в одной из ловушек. Их много здесь расставлено автором. Приходится, во-первых, разбираться, где звучит голос рассказчика, а где голос самого автора. В записи от первого лица речь все время идет о прошлом, и надо угадать, что когда произошло. Так мы попадаем в полнейшую зависимость от восприятия рассказчика, от его памяти, от его конечного намеренья. К тому же рассказчик наш пребывает в возбужденном состоянии, он то и дело уходит в сторону от рассказа, лихо пробует все свои двадцать пять почерков. И ни герой, ни автор ни на минуту не забывают, что предметом их является литература. Двойник Германа, например, не просто «вымыл ноги снегом»: он «вымыл ноги снегом, как это делал кто-то у Мопассана» (Мопассану еще не раз достанется в произведениях Набокова). Рассказчик не просто плакал: он «глотал слезы и всхлипывал. Метались малиновые тени мелодрам».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: