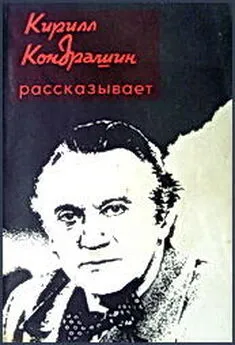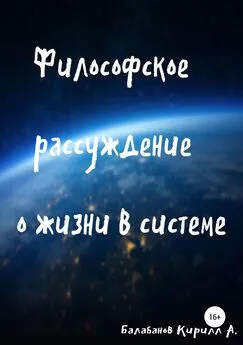Ражников Григорьевич - Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни
- Название:Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский композитор
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-85285-233-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ражников Григорьевич - Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни краткое содержание
Записи бесед с дирижером К. П. Кондрашиным. Непростая жизнь Кирилла Петровича Кондрашина — отражение бурных событий XX века…
Автор книги, В. Г. Ражников, известен работами в области психологии и музыкальной педагогики, вместе с К. П. Кондрашиным им написаны книги «Мир дирижера» и «Интерпретация симфоний П. И. Чайковского».
Кирилл Кондрашин рассказывает о музыке и жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На кладбище поехали почти все. Народу было тысячи две. Похоронили его через могилу от его первой жены — совпадение судьбы. Просто случайно там оказалось место.
После похорон Ирина Антоновна и Максим пригласили приехать к ним на дачу. Там было человек 80. Револь Бунин, кажется, сказал:
— Вот тут собрались истинные друзья Дмитрия Дмитриевича.
Поминки были действительно очень трогательными. К ним я раньше относился как-то с неприязнью, считал это иезуитским обычаем — все веселятся. А тут вдруг я почувствовал, что меня немножко отпустило, и все как-то немножко расслабились. Правда, на следующий день мне было очень плохо и даже потом, в Риге, у меня были сердечные припадки.
В. Р. Вы не выступали там, на официальных похоронах?
К. К. Нигде не выступал. Там все речи отфильтровывались давным-давно, пропускались через десять инстанций.
Вот так кончил жизнь Дмитрий Дмитриевич, чистый человек. Между прочим, характерная особенность: когда я стоял в почетном карауле с правой стороны, там, где сидят близкие, я видел на его сильно изменившемся лице скорбный оттенок. А когда я пересел налево, то увидел совершенно другое лицо, в нем была какая-то несвойственная Шостаковичу саркастическая ухмылка. Такое впечатление, будто он смеется, слушая речи, которые звучали.
Я не утерпел и сказал об этом своему соседу, Дмитрию Борисовичу Кабалевскому. Он ответил, что и у него такое же впечатление создалось.
В. Р. Что Вы можете сказать о его покаяниях?
К. К. Его покаяния носили характер просто формальный. Ну, писал «Песнь о лесах» по заказу. Ему нечего было есть в то время и нужно было писать то, что принесет деньги. И он писал. И все равно — это Шостакович. Он писал на какие-то ужасные тексты Долматовского… Они шли параллельно, демократическое направление более доступное, типа оперетты; были и не только неудачные сочинения, но и удачные. Фортепьянный концерт — отличное сочинение, хотя он очень прост, написан для детей. Параллельно он писал «Еврейские песни» и сложнейший Первый скрипичный концерт, который сейчас — классика, но в то время казался неслыханной вещью.
После постановления 1948 года он писал Десятую симфонию, которая тоже была встречена в штыки, — сложнейшая симфония. А сегодня мне она кажется ясной. Он вообще развивался.
На Западе считалось, что критика испортила его, что он стал писать «по заказу». Я совершенно с этим не согласен. Каждый великий композитор опрощается к концу своей жизни. Барток опростился и Хиндемит опростился, не говоря уж о Прокофьеве. И у Шостаковича это логично. Я процитирую Пастернака, тоже мученика:
Во всем грядущем разуверясь
И знаясь с будущим в быту,
Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
В неслыханную простоту.
Вот, действительно, эта «ересь» присуща всем великим, Шостаковичу тоже.
В. Р. Говорят, Дмитрий Дмитриевич все постановления носил с собой в кармане.
К. К. Не думаю. Чихал он на эти постановления. На словах он признавал и каялся.
В. Р. А Ваше отношение к Одиннадцатой и Двенадцатой симфониям?
К. К. Одиннадцатую я люблю, а Двенадцатая слишком формальна и плакатна. Хотя там отличная первая тема. Это тоже Шостакович. Это все равно язык Шостаковича. Музыкальное совершенство формы. По-видимому, по таким вещам о нем говорить трудно. Программная музыка его фантазию сковывала.
В. Р. Не считаете ли Вы, что оголтелая критика нашего нищенского типа убивает художника? Особенно музыканта. Он ведь утонченное существо!
К. К. К сожалению, из-за критики мы лишились многих гениальных опер, которых Шостакович не создал. Две оперы — это два направления, совершенно противоположных, но каждая из них потрясает. Он драматург был великий.
Но я Вам скажу, он не считал себя обязанным перед чиновниками. «Он слушал, но ел». Свое дело делал. Сочинял что-то в ящик, что-то на публику, что-то для денег — художник не может иначе. Кто-то хорошо рассказал. Когда был трудный период, после 1948 года, и нечего было делать, он встретил своих коллег, которые спросили:
— Дмитрий Дмитриевич, что Вы пишете?
— Я сейчас для фильма пишу музыку. Неприятно, что приходится это делать. Я вам это советую делать только в случае крайней нищеты, крайней нищеты.
Он часто подчеркивал ключевые слова.
О великих музыкантах
В. Р. А какие солисты и дирижеры, с которыми Вам пришлось встречаться, оказали на Вас большое влияние?
К. К. Начнем с пианистов. Если не считать наших Рихтера и Гилельса, то я бы мог назвать двух гигантов. Они совершенно разные, но необычайно интересные.
Я не знаю, как играет сейчас Артур Рубинштейн. Ему теперь уже более 90 лет. Мы с ним выступали лет восемь назад. Он в апостольском возрасте. Мне говорили, что он скрывает свой возраст. Во всяком случае — светлейшая голова, знание множества языков и чистый разговор по-русски. Восторженность необыкновенная. О музыке он говорит взахлеб. Сейчас же садится играть. С какой-то детской непосредственностью. Необычайно простая фразировка. Вот когда он играл Шопена, я понял, что Шопена надо играть так. Он играет то, что написано в нотах, и не больше. Получается великая музыка. Никакой отсебятины, никаких таких дурновкусных рубато, замедлений и декадансов — все просто, благородно. Мы с ним играли Шопена, когда он приезжал в Советский Союз. После этого мы с ним встретились в Париже. Как раз я отлично помню этот концерт. Это было в 1963 году, в один из ноябрьских дней, когда перед началом концерта вышел распорядитель и сказал, что вчера убили президента Кеннеди. Все встали. После этого мы с ним играли Второй концерт Брамса.
Второй пианист — это Бенедетти Микеланджели. Причем надо сказать — они совершенно разные. Рубинштейн необыкновенно романтичен, даже несколько экзальтирован, но это только во внешнем его поведении. Игра его академичная и теплая. Он поэт в музыке. А Бенедетти Микеланджели сидит как истукан. Каменное лицо, ничего не выражающее. Но играет! Такая продуманность, такой вкус. Мы с ним играли Четвертый концерт Бетховена. Я там вдруг «услышал», как встречаются чередующиеся в хроматической гамме триоли с квартолями. Нужно уложить определенное количество нот в этом такте. Как это было необыкновенно отработано! Вот это — триоль, а это — квартоль. Совершенно точно. Ясно и наполнено глубочайшим смыслом.
Очень любопытно, как он готовился к концерту. Мы с ним утром репетировали. Он очень требователен и очень корректен. Он точно знал, что ему нужно. Если ты это сделал, то уже никаких придирок нет. Бывают такие солисты, которые себя желают утвердить. Он сидит и слушает тутти, которое вы сыграли, и говорит: «Прошу вас сыграть еще раз». — «Что было плохо?» — «Я хочу еще раз послушать!» Слушает. «Вы знаете, вот тут скрипки нечисто играют». — «Я не слыхал». — «Ну давайте еще раз».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: