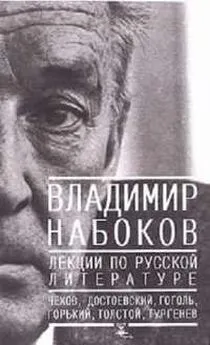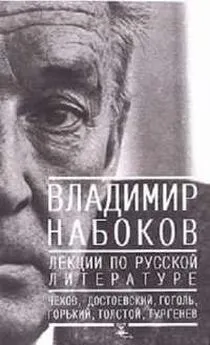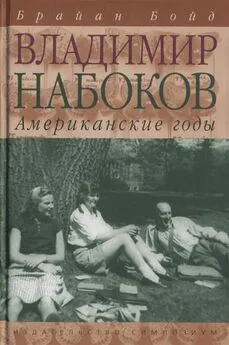Брайан Бойд - Владимир Набоков: русские годы
- Название:Владимир Набоков: русские годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Симпозиум
- Год:2010
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-89091-421-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Брайан Бойд - Владимир Набоков: русские годы краткое содержание
Биография Владимира Набокова, написанная Брайаном Бойдом, повсеместно признана самой полной и достоверной из всех существующих. Первый том охватывает период с 1899 по 1940-й — годы жизни писателя в России и европейской эмиграции.
Перевод на русский язык осуществлялся в сотрудничестве с автором, по сравнению с англоязычным изданием в текст были внесены изменения и уточнения. В новое издание (2010) Биографии внесены уточнения и дополнения, которые отражают архивные находки и публикации, появившиеся за период после выхода в свет первого русского (2001) издания этой книги.
Владимир Набоков: русские годы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Зина вначале появляется в романе только как безымянная, молчаливая падчерица хозяина новой квартиры Федора, которая не выносит самодовольной вульгарности своего отчима. Читатель узнает имя возлюбленной Федора не раньше, чем дочитав книгу до середины срединной главы. Именно в тот момент, когда Федор заканчивает стихотворение, воспевающее их вечерние свидания в городе, — только такие встречи она позволяет, — Зина появляется из темноты. Система образов и возвышенный героический тон стихотворения, которое Федор сочинял для нее целый день, вызывает в памяти его незаконченную книгу о путешествиях отца:
Есть у меня сравненье на примете, для губ твоих, когда целуешь ты: нагорный снег, мерцающий в Тибете, горячий ключ и в инее цветы. Ночные наши, бедные владения, — забор, фонарь, асфальтовую гладь — поставим на туза воображения, чтоб целый мир у ночи отыграть! Не облака — а горные отроги, костер в лесу, — не лампа у окна… О поклянись, что до конца дороги ты будешь только вымыслу верна…
Эти строки Федор сочинил еще утром, лежа в постели. Заключительная часть стихотворения рождается у него сейчас, вечером, когда он поджидает Зину:
Под липовым цветением мигает фонарь. Темно, душисто, тихо. Тень прохожего по тумбе пробегает, как соболь пробегает через пень. За пустырем как персик небо тает: вода в огнях, Венеция сквозит, — а улица кончается в Китае, а та звезда над Волгою висит. О, поклянись, что веришь в небылицу, что будешь только вымыслу верна, что не запрешь души своей в темницу, не скажешь, руку протянув: стена.
Волга, улица, которая ведет в Китай, даже Венеция, связанная для Федора с висевшей в отцовском кабинете картиной: Марко Поло покидает Венецию — все это также обращено к отцу [152] В стихотворении без названия, где Набоков говорит о своих первых прогулках с Верой в таком же волшебном мире уличных фонарей и теней, возлюбленные тоже видят Венецию в Берлинском канале (см. выше, с 254–255).
. Стихи Федора, воспевающие прогулки и разговоры с Зиной, перекликаются и со стихотворением об одиночестве, которое он сочинял в первой главе — в «призрачном кругу» фонаря возле закрытых дверей своего дома, — транспонируя его из минора в мажор. Записанные сплошными строками, они в то же время предвосхищают финал романа с его стихотворной концовкой, тоже замаскированной под прозу и предвосхищающей тот момент, когда Федор и Зина останутся вдвоем на улице.
Последняя строка посвященного Зине стихотворения завершает абзац, а в начале следующего она наконец входит в роман «из темноты… как тень… от родственной стихии отделясь». Вот конец этого абзаца:
Что его больше всего восхищало в ней? Ее совершенная понятливость, абсолютность слуха по отношению ко всему, что он сам любил. В разговорах с ней можно было обходиться без всяких мостиков, и не успевал он заметить какую-нибудь забавную черту ночи, как уже она указывала ее. И не только Зина была остроумно и изящно создана ему по мерке очень постаравшейся судьбой, но оба они, образуя одну тень, были созданы по мерке чего-то не совсем понятного, но дивного и благожелательного, бессменно окружавшего их.
Федор полагается на неизменную доброту судьбы, несмотря на то что у него имеется немало оснований считать, что жизнь хочет посмеяться над ним или сорвать его планы. Биографии всех трех Чернышевских — знаменитого писателя, незаметного студента и его полубезумного отца — могли бы, кажется, послужить еще более убедительным доказательством того, что делами человеческими управляет какой-то бессердечный шутник. Федору, однако, известно и нечто другое: он понимает, что подлинный ключ от его мира можно найти в тайной щедрости, скрывающейся за кажущейся недоброжелательностью.
Уже самим своим устройством жизнь причиняет нам боль: мы страдаем от одиночества души, от уходящего времени. Федор, однако, понимает, что и то и другое — это лишь высокая цена, которую взимает жизнь за свои дары, которые иначе невозможно получить, — за независимость духа, за неповторимость и хрупкость каждого мига. Однако через свою любовь к Зине он преодолевает одиночество, через свое искусство постигает смысл уходящего времени и побеждает его. И быть может, по ту сторону смерти, там, there, là-bas, где его отец, кажется, каким-то образом управляет счастливыми поворотами в его судьбе, даже высокая цена, которую приходится платить за то лучшее, что дарует жизнь, окупится одним последним великим даром. Если прошлое сохранится, если «я» будет преодолено.
ГЛАВА 21
В нищете: Франция, 1938–1939
Париж становился средоточием культуры и нищеты эмиграции.
«Смотри на арлекинов!» 1 1 Эпиграф: СА, 143.
I
С тех самых пор как Набоков задумал «Жизнеописание Чернышевского», он сознавал, что оно вызовет не меньшее негодование, чем восторг. Отказ Руднева напечатать четвертую главу «Дара» означал, что фейерверк откладывается, однако в первые несколько месяцев 1938 года даже без Чернышевского Сирин умудрился наделать немало шуму.
В январе 1938 года — эту зиму Набоков проводил в Ментоне — «Современные записки» напечатали новую порцию «Дара». Друг Набокова Георгий Гессен писал ему из Парижа:
Прочитал «Дар» и хочу тебе сказать, что ты — гений. Ах, если бы ты отдаленно играл бы так в шахматы, или в теннис, или в футбол, как пишешь, подлец, то мог бы дать пешку Алехину, +15 Budge'y, в любой профессиональной команде сделать Hiden'a запасным голкипером 2 2 Письмо Георгия Гессена к ВН от 13 января 1938, АВН.
.
В следующем номере журнала была напечатана та часть «Дара», где Федор читает рецензию некоего «Христофора Мортуса» на последнюю книгу Кончеева 3 3 В стихотворении ВН «Из Калмбрудовой поэмы „Ночное путешествие“» содержится шутливая отсылка к Адамовичу через сочетание Адамова голова («череп») (см. с. 432–433). Как отметил Джон Малмстед, бабочка мертвая голова, окраска которой напоминает череп, была также известна в России под названием «Адамова голова» и получила в словаре Даля определение «Sphinx Caput mortuum» (Минувшее, 1987, № 3, 286); отсюда и фамилия Mortus.
. Все эмигранты немедленно узнали в Мортусе Георгия Адамовича:
«Не помню кто — кажется, Розанов говорит где-то», — начинал, крадучись, Мортус; и, приведя сперва эту недостоверную цитату, потом какую-то мысль, кем-то высказанную в парижском кафе после чьей-то лекции, начинал суживать эти искусственные круги вокруг «Сообщения» Кончеева <���…>.
Это был ядовито-пренебрежительный «разнос», без единого замечания по существу, без единого примера, — и не столько слова, сколько вся манера критика претворяла в жалкий и сомнительный призрак книгу, которую на самом деле Мортус не мог не прочесть с наслаждением, а потому выдержек избегал, чтобы не напортить себе несоответствием между тем, что он писал, и тем, о чем он писал… Друзьям таланта Кончеева они [стихи], вероятно, покажутся прелестными. Не будем спорить, — может быть, это действительно так. Но в наше трудное, по-новому ответственное время, когда в самом воздухе разлита тонкая моральная тревога, ощущение которой является непогрешимым признаком «подлинности» современного поэта, отвлеченно-певучие пьески о полусонных видениях не могут никого обольстить. И право же, от них переходишь с каким-то отрадным облегчением к любому человеческому документу, к тому, что «вычитываешь» у иного советского писателя, пускай и недаровитого, к бесхитростной и горестной исповеди, к частному письму, продиктованному отчаянием и волнением 4 4 Дар, 348–349.
.
Интервал:
Закладка: