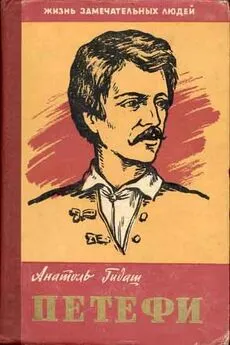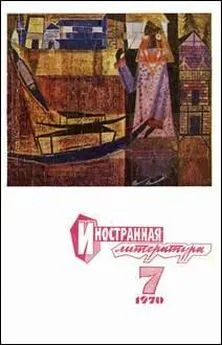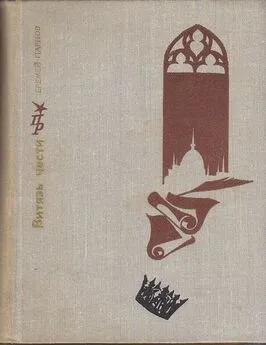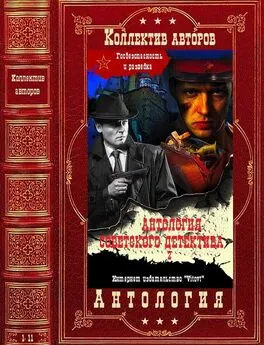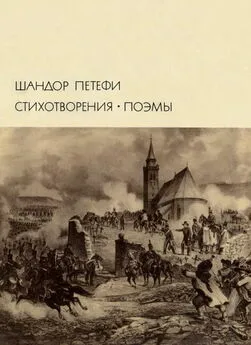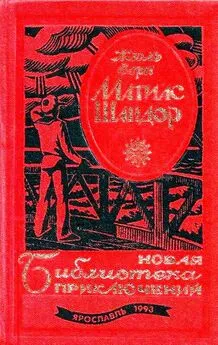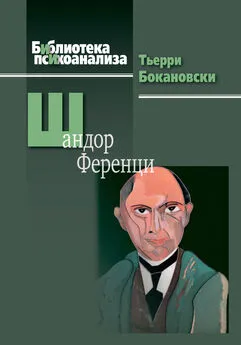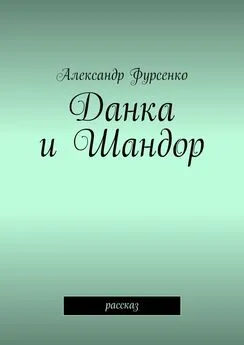Анатоль Гидаш - Шандор Петефи
- Название:Шандор Петефи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Молодая гвардия» МОСКВА 1960
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатоль Гидаш - Шандор Петефи краткое содержание
Книга А. Гидаша посвящена жизни и творчеству великого венгерского поэта XIX века А. Петефи. Шандор Петефи — автор многочисленных стихотворных произведений: пьес, поэм, песен. Наиболее полно его произведения стали переводиться на русский язык в советское время.
Шандор Петефи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пьет мадьяр, веселым взором
Вдаль глядит,
Ибо выпитое с толком
Не вредит.
Пьет за родину, и сразу —
Ясен путь!
Только лучше б совершил он
Что-нибудь…»
Этими и подобными стихами Вёрёшмарти проложил дорогу для великого Петефи, который первый придал истинный революционный смысл народности и патриотизму в литературе.
Петефи взял факел поэзии из рук Вёрёшмарти, зажег его огнем политической борьбы, высоко поднял над головой и понес его вперед. «Слова — солдаты», «герои в дерюгах» прокладывали ему путь к вершинам венгерской поэзии.
Петефи пошел всего двадцать второй год, когда он стремительно ворвался в венгерскую литературную и политическую жизнь. Впервые в Венгрии поэт заговорил с народом не свысока, а как представитель самого народа. Мысли и чувства, обуревавшие его, он стал высказывать живым языком народных масс.
Критики — властители литературы той эпохи — сперва замечали только одно: появился очень талантливый поэт, который может помочь им в создании новой венгерской литературы с той идейной направленностью, какая устраивала этих «трезвых» деятелей. Первые произведения Петефи венгерское общество, особенно круги прогрессивной молодежи, встретило восторженно. Их покорили свежесть, непосредственность, проникновенная искренность стихов Петефи, лукавая прелесть его песен, новизна и своеобразие жанровых картинок, истинно народное песенное начало в его творчестве. Национальное своеобразие его поэзии, полная отрешенность и независимость поэта от всякого рода чужеземных влияний, пустивших такие глубокие корни в венгерской поэзии, еще больше содействовали популярности Петефи, и он сразу стал знаменем тех, кто ратовал за национальную независимость Венгрии.
Первые полгода деятельности Петефи в литературе — с весны до осени 1844 года — проходят почти совсем спокойно. Разве только иногда раздаются упреки отдельных литературных ретроградов [39] Ретроград — противник прогресса, человек с отсталыми взглядами.
, которые никак не могут примириться с демократической основой, или, как они называли, «низменностью», его стихов, с той ломкой традиционных форм, которую произвел Петефи, с неожиданными, новыми образами, сравнениями, метафорами, с неподдельной, естественной народностью его поэзии. Но вот еще до сборника стихов, намеченного к изданию «Национальным кругом», выходит «ироикомическая» поэма [40] Литературный жанр, основанный на пародировании условной торжественности героических поэм классицистов.
Петефи «Сельский молот». Она заставляет насторожиться многих. Поэт заговорил таким голосом, который ошеломил не только ревнителей традиций — тупоголовых реакционеров, но и сторонников реформ.
В «Сельском молоте» Петефи задорно и весело разделывается с героическими эпопеями предшествующих поэтов и современников, с той напыщенной дворянской поэзией, которая искала свои темы не в жизни народа, а воспевала подвиги своих предков-дворян.
Петефи изображает в этой поэме комические перипетии любовной истории, в которой участвуют сельский кузнец, шинкарка и певчий, причем рассказывает о похождениях своих героев простейшим народным языком, нарочно изукрасив его в наиболее не подходящих для этого случаях «высокими», эпитетами. О самых простых людях и повседневных событиях их жизни Петефи повествует «высоким стилем» эпоса.
На живописнейшем пригорке,
Откуда можно ясно видеть
Всю пыль и грязь деревни этой
(Конечно, если позволяет
Пейзаж сей рассмотреть погода), —
Как я сказал, на этом самом
Холме,
Средь зарослей крапивы
И прочих редкостных растений,
Стоит прекраснейшая в мире
Корчма, что милостию божьей,
А также хлопотами мужа,
Которого уж нет в помине,
Досталась в полное владенье
Той самой даме, что зовется
Невинно-чистой Эржок.
И поэт призывает себе на помощь лиру, дар неба божьего, чтоб воспеть красу невинно-чистой Эржок. Смеясь до упаду над всей торжественной статичностью стиля ложноклассического эпоса, старательно подбирая устоявшиеся, омертвевшие слова и уныло-медлительно разворачивающиеся метафоры, начинает он описывать полюбившуюся ему героиню:
На чудном, дивном, лунно-круглом
Лице невинно-чистой Эржок,
На лике этом, на котором
Лишь пятьдесят четыре года
Отражены, на тех ланитах
Горит зари
Румянец вечный.
Прекрасна Эржок! Правда, надо
Упомянуть о негодяях,
Бесстыдно лгущих,
Что на лице прекрасной Эржок
Не целомудрие сияет,
Но горячительных напитков
Пылает отблеск сизо-красный,
Закату осени подобный.
Она была прекрасна, словно
Венок из маков;
Она была великолепна,
Как лунный луч, горящий ночью
На серебристой алебарде
В руках объездчика лесного!
Вот потому и посещался
Дом нежной Эржок столь усердно,
Что никому и не хотелось
Заглядывать в корчму иную.
Хотя в селе, сказать по правде,
Другой корчмы и не имелось.
В отдельные эпизоды, например в описание того, как кузнец спускается по веревке с колокольни или как закатывается солнце над деревней, вложена такая торжественная эпичность, что за каждой строчкой мы видим хохочущего поэта, который, как бы играючи, воздвигает причудливую постройку из народной речи, языка ложноклассических поэм и собственной затейливой поэтической фантазии.
Спустился он благополучно.
Веревка, правда, домогалась,
Чтоб он оставил в благодарность
Ей кожу со своей ладони,
Но кожа доблестного мужа,
С ним не желая расставаться,
Не согласилась и упрямо
Веревке жадной заявила:
«Нет, нет, тебе я не достанусь,
А если я тебе достанусь,
Пускай достанутся в добычу
Тебе и сестры — эти жилки
Со всеми косточками вместе!»
И, уяснив себе такие
Высокие порывы кожи,
Добросердечная веревка
От всякой дани отказалась.
А как же вело себя солнце во время сих драматических событий? Хотя, быть может, солнце тут и ни при чем? Но разве можно оставить непричастными стихии? Космос необходим поэту для гиперболического контраста. И вот мы видим:
А время близилось к закату,
И аппетитный пончик солнца
Вдруг сделался алее перца
И впал с сургучную багровость.
О солнце, красное ты солнце,
Скажи: зачем ты помутнело —
От ярости ли, от стыда ли?
И что за ржавчина покрыла
Лучей твоих златые копья,
Как жилки кроют нос пьянчуги?
Нет! То не СТЫД, не ярость это,
Я знаю, что это такое!
Интервал:
Закладка: