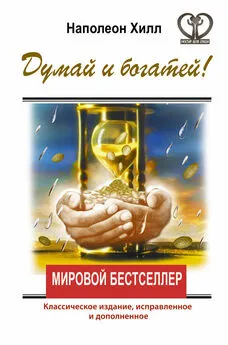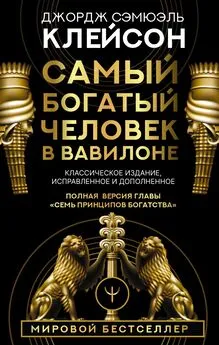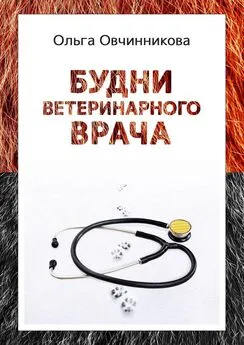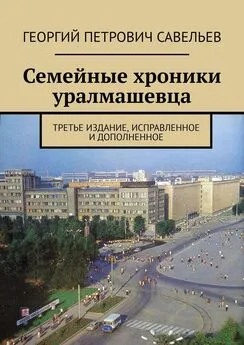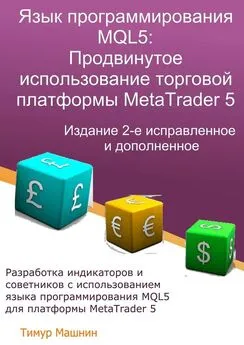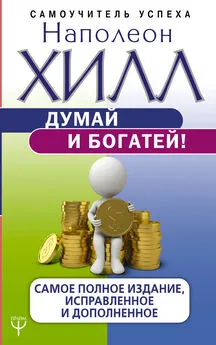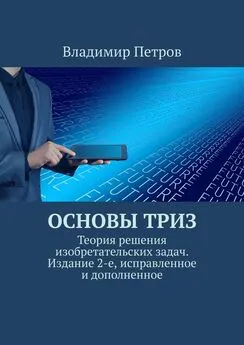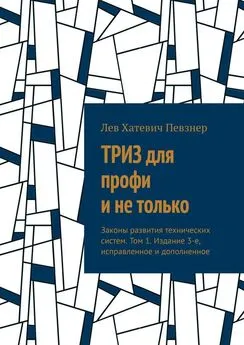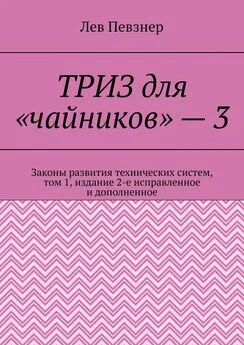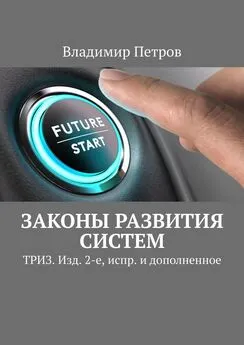Алексей Лосев - Платон. Аристотель (3-е изд., испр. и доп.)
- Название:Платон. Аристотель (3-е изд., испр. и доп.)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Молодая гвардия»
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-235-02830-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Лосев - Платон. Аристотель (3-е изд., испр. и доп.) краткое содержание
Читатели по достоинству оценили эту замечательную работу выдающегося философа XX века Алексея Федоровича Лосева и знаменитого филолога-античника Азы Алибековны Тахо-Годи: биографии написаны удивительно просто и ярко; учения трех величайших философов античности (Сократа, Платона, Аристотеля) изложены в ней сжато и доступно.
Настоящее издание снабжено письмами Сократа и сократиков. Перевод этих писем выполнен известным переводчиком начала XX века С. П. Кондратьевым. Письма относятся примерно к I–III векам, но тем не менее, безусловно, представляют собой не только литературную, но и историческую ценность.
Платон. Аристотель (3-е изд., испр. и доп.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
До сих пор мы излагали четыре принципа Аристотеля более или менее раздельно и самостоятельно, в то время как у самого Аристотеля они несомненно представляют собою нечто целое и неделимое. Ведь Аристотель является прямо-таки мозаически мыслящим умом. Его понятия чрезвычайно дифференцированны и дробны. Он любит бесконечно различать, анализировать бесконечные мелочи и находить дистинкции там, где обычно человеческое мышление вовсе не производит таких мельчайших различий, а мыслит более цельно, более общо, хотя в то же самое время и более глобально. Это же касается и тех четырех принципов одушевленной структуры, которые, конечно, можно было бы изложить и более цельно и не столь дробно и более общим, гораздо более понятным образом.
Сформулируем эти четыре принципа в более общей форме, а потом уже покажем как этот единый и цельный принцип действует в разных областях бытия без той его дробной раздельности, которая фигурирует у Аристотеля, или с той именно его дробностью, но более понятно и в синтетическом виде.
Итак, речь идет об определении вещи. Именно вещь есть (передадим Аристотеля в более понятном виде), во первых, материя, во-вторых, форма, в-третьих, действующая причина, и, в-четвертых, определенная целесообразность. Эйдос (форма) не существует отдельно, но всегда воплощается в материи. Тогда так и будем говорить о материально осуществленной форме, что, как нам кажется, будет понятно всякому. Что каждая вещь так или иначе действует, например, дерево растет, камень так или иначе меняет свою форму в зависимости от окружающей обстановки, — это тоже понятно каждому. И то, что каждая вещь имеет определенный смысл и предназначена для какой-нибудь своей цели, это едва ли вызовет у кого-нибудь сомнения. Ведь все же вещи меняются — молодеют, стареют, получают более чистую форму, хиреют, а то и просто уничтожаются и умирают. Вишневое дерево произвело определенного рода ягоды. И эти ягоды есть та цель, которую преследовало вишневое дерево, покамест произрастало. Детские салазки постепенно расшатывались и в конце концов сломались. И эта поломка есть та цель, к которой неизбежно стремилось расшатывание салазок. Так не проще ли будет сказать, что каждая вещь имеет причинно-целевую сторону, что она по какой-то причине произошла и какой-то цели достигла, положительной или отрицательной? Но тогда не проще ли будет сложные рассуждения Аристотеля свести к одной и общепонятной фразе: каждая вещь есть овеществленная форма с причинно-целевым назначением .
Точно так же эту четырехпринципную структуру вещи можно выразить даже и просто без всяких четырех «причин», а только в виде одного и единственного принципа, тоже всем понятного, но, конечно, требующего некоторого разъяснения. Что это за принцип? Ведь если бы мы овладели этим принципом, то, можно сказать, вся эта сложнейшая аристотелевская философия предстала бы перед нами в простейшем и понятнейшем виде, который и разъяснять-то было бы нечего. Конечно, здесь, как говорится, нужно было бы говорить «своими словами». Но это нисколько не худо, поскольку книга наша предназначается для юношества, которому «свои слова» могут прийти в значительной мере на помощь.
Возьмем соотношение эйдоса (формы, или идеи) и материи. В нашем житейском быту материю понимают слишком прозаически, просто как материал, из которого что-нибудь делается. Но даже если понимать материю как простой материал, то оформление материи для получения из нее какого-нибудь предмета уже предполагает некоторый хотя бы примитивный художественно-творческий принцип оформления материи.
На дворе валялись какие-нибудь дрова, какие-нибудь доски или бревна или просто какие-нибудь палки или деревянные дощечки. Но вот я позвал плотника и сказал ему, чтобы он сделал для моей собаки хорошую, прочную и красивую конуру, чтобы моя собака могла прятаться в ней в дождливое или морозное время. Плотник стал советоваться со мной, какие сделать стенки для этой конуры, какую сделать крышу, какую сделать дыру для пролезания собаки. Я с ним долго беседовал. Одни стенки показались нам неподходящими, и мы решили сделать другие. Крышу конуры мы тоже решили сделать подобной формы. Плотник, узнавший о моих намерениях, сказал: не лучше ли будет для полной ясности сначала начертить эту конуру на бумаге? И когда я вместе с ним начертил план конуры, то плотник еще задал мне несколько вопросов, так как ему хотелось, чтобы конуру не продувало, чтобы через нее не проникала вода, чтобы собаке было уютно спрятаться от непогоды, чтобы отверстие конуры было не очень велико, но и не очень мало, и т. д. Мой плотник много копался в дровах, которые валялись на дворе, много пилил и строгал, много прибивал и забивал. И в результате получилась хорошая собачья конура, уютная для собаки и приятная для моего взгляда.
Спрашивается теперь: где же это в собачьей конуре эйдос (форма, идея) и где ее материя? Когда я смотрю на эту конуру, я забываю и думать о каких-нибудь эйдосах и о какой-нибудь материи. Для меня это просто собачья конура и больше ничего. Но этого сказать будет мало. Дело в том, что и мой плотник, и я сам много думали, прежде чем построить эту собачью конуру. Сам эйдос — это ведь ничто. В крайнем случае, это только наша мысль с моим плотником, или, в крайнем случае, это только чертеж на бумаге. Но ведь собака будет жить не в эйдосе конуры, а в самой конуре; и она будет жить не в чертеже конуры, но в самой конуре. И любуются мои приятели не на эйдос конуры, но только на саму конуру, и не на те дрова, которые валялись у меня во дворе или в саду и из которых сделана конура, но на саму конуру.
Другими словами, овеществление эйдоса конуры в ее материи есть не что иное, как удачно и целесообразно сделанное произведение , то есть результат работы, имеющий прямое отношение к мастерству, а значит, в конечном итоге, и к художественным устремлениям самого мастера. Конечно, собачья конура — это чересчур элементарный пример, где творчество проявляется минимально, хотя плотник может сделать эту конуру хорошей или плохой, красивой или уродливой. Но ведь и художественные произведения могут быть и хорошими и плохими. И тем не менее самый принцип воплощения эйдоса в материи, о котором мы говорили выше, всегда есть обязательно только определенный творческий принцип, хороший или плохой. В обыденной жизни мы тоже говорим о форме, которая оформляет тот или иной материал. Но это наше признание всегда слишком прозаично. Мы не знаем ни того, что такое эйдос вещи, — в крайнем случае, для нас это только план вещи; ни того, что такое материя вещи, — в крайнем случае, для нас это только сырой материал вещи. Но у Аристотеля понятие «эйдос вещи» проанализировано тончайшим образом; и что такое у него материя вещи, об этом пишутся целые диссертации и целые толстые тома, до того тончайше и изящнейше разработана эта категория у Аристотеля. Что же касается нас, то в нашей настоящей работе достаточно будет указать только на обязательный и общий творческий принцип соотношения эйдоса, или формы, и материи у Аристотеля. Это будет, во всяком случае, указание на центральную позицию Аристотеля в данном вопросе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: