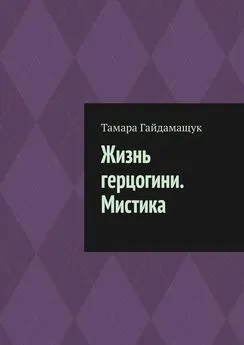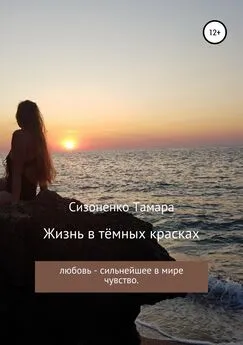Тамара Петкевич - Жизнь - сапожок непарный : Воспоминания
- Название:Жизнь - сапожок непарный : Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Астра-Люкс : АТОКСО
- Год:1993
- Город:СПб
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тамара Петкевич - Жизнь - сапожок непарный : Воспоминания краткое содержание
Тамара Петкевич — драматическая актриса, воплотившая не один женский образ на театральных сценах бывшего Советского Союза. Ее воспоминания — удивительно тонкое и одновременно драматически напряженное повествование о своей жизни, попавшей под колесо истории 1937 года.
(аннотация и обложка от издания 2004 года)
Жизнь - сапожок непарный : Воспоминания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
От станций шли к колоннам пешком. То и дело встречались сбитые в грязные серые бригады заключенные, идущие на работу или с работы. Иногда из этой массы вырывался, полоснув, чей-то острый, горячий взгляд, как свидетельство насыщенной внутренней жизни встретившегося на пути человека.
Бараки на колоннах были переполнены. Нас размещали где попало: в комнатушках при конторах, при медпункте или клубе. Топчанов не хватало. Спать приходилось и на полу, и на столах.
Утром репетировали. Вечером давали концерт.
Пришедшие из леса или с погрузок работяги, узнав о нашем приезде, спешили отмыться, быстрее поужинать и заполняли клуб или преображенную в него столовую. В первые ряды усаживались вохровцы, за ними — зеки.
Начинался концерт. Все смолкали.
Я знала по себе, что на глухих лагпунктах в тайге человеку, которого дубят недоеданием и непосильным трудом, начинает казаться, что на земле давно уже нет ни музыки, ни песен.
Наш приезд напоминал о забытом поэтическим слове, подтверждал, что рифма, ритм и размер существуют, следовательно, есть цикл, начало и завершение, а значит, если Бог даст — спасение возможно. На сцену выходили Аллилуев и Головин, тенор и баритон. Положив руку на плечо друг другу, они запевали всем знакомое: «Прощай, любимый город, уходим завтра в море…»
У притертых друг к другу заключенных-зрителей в арсенале средств для разрядки душевной боли имелось одно: горючие слезы. Заглядывая в дырочку боковой «кулисы», я видела, как безудержно они лились по измученным лицам мужчин и женщин. Неотрывно глядя на этих людей, сама утирая слезы, я свято уверовала в то, что мы необходимы друг другу. Только эта вера гасила неуходящее чувство вины за то, что нам в ТЭК неизмеримо лучше, чем им.
Слезы сменяла улыбка, когда выходила танцевальная пара, потом акробаты. На «Юбилее» запертые чувства взрывались и смех порой доходил до общего стона. Я как счастья ждала ежевечернего спектакля. Выход на сцену стал смыслом жизни.
На каждой колонне у тэковцев были друзья и знакомые. Безвыездно сидевшим в зоне мы, разъезжавшие по трассе, казались полувольными людьми.
— Что слышно? — спрашивали нас. — Говорят что-нибудь про амнистию? Расскажите, как там, на воле.
Гостеприимный врач Шежамской колонны Нусенбойм после концерта пригласил нас, человек шесть-семь, «на ужин». Подплясывал язычок горевшей в лазарете коптилки. Кто-то из палатных больных просил разрешения зайти, тихо сидел, завернувшись в больничное одеяло. В который раз начинало утрачиваться чувство реальности и казаться все неким «другим Светом», в котором неизвестно зачем и как очутился. Врач поставил на стол сковородку с поджаренной на рыбьем жиру картошкой. Мы принесли что-то из своих пайков. Последовали жаркие расспросы и откровения, затянувшиеся до утра.
За Шежамом следовали другие колонны. Всюду встречались редкие индивидуальности, интересные и странные люди. Встречались истые джентльмены и чудаки. Как пароль в изгнанную страну человеческого общения был почтительный поцелуй руки, просто взгляд или вырвавшееся из сдавленного горла: «И я ленинградец!»
Колонны прятались в тайге, были раскиданы и по тундре. Мы вязли в дорожной грязи и топи, переезжали, шли и волочились, изнемогая от усталости и тяжести чемоданов. Наконец на день или два останавливались на очередной колонне, давали концерт, собирали свои манатки и снова — в путь. Так я увидела лагерь СЖДЛ, раскинувшийся до самой Печоры, с неисчислимым множеством его лагпунктов, где, за забором и проволочными заграждениями содержались тысячи и тысячи сотоварищей по Судьбе. Зоны, зоны, зоны. Человек.
В Микунь мы приехали рано утром, а вечером должны были выступать на колонне. Я и представить себе не могла, что меня здесь ожидает. Отыграв «Юбилей», по неустойчивой, крутой лесенке я спускалась со сцены в общую комнату, где мы разгримировывались. Помогая мне сойти, наш администратор шепнул:
— Вас здесь ждут.
У противоположных дверей комнаты стоял незнакомый седой человек в холщовой рубахе. Я ожидала: он представится, скажет, кто он, что ему нужно. А он молчал и то ли протягивал руки мне навстречу, то ли отстранялся ими от меня.
— Ты только не волнуйся, Тамуся. Только не волнуйся, прошу. Это я, Платон. Ничего страшного. Да, да, это я, — прерывисто и торопливо говорил он.
С именем, с голосом что-то продиралось сквозь сознание. Но сразу поверить в то, что здесь стоит передо мной Платон Романович, человек из прежней, вольной жизни, я не могла.
— Не волнуйся, не волнуйся, — слышала я как в бреду его голос и все не могла сцепить звенья несоединимого. — Когда увидел тебя на сцене, не поверил. Думал, сердце не выдержит, разорвется. Ты — в лагере?! Ты — здесь?! Подожди, я не могу…
Плакали уже все окружавшие нас. А я никак не могла прийти в себя, осознать происшедшее.
Мы вышли в зону. Что-то сминая в себе, безжалостно скручивая, сели на бревна.
— Рассказывай все. Как ты тут оказалась? Как? Мне кажется, я с ума сойду.
Он говорил мне «Тамуся, ты», я, как прежде, «Вы, Платон Романович».
— Ну, а как вы? Вы же были на фронте! Последнее письмо я получила от вас во Фрунзе второго мая сорок второго года.
— В сентябре попали в окружение, затем — плен, оттуда — сюда.
— Сколько вам дали?
— Меньше десяти никому не дают.
Чтоб не образовывалась брешь, после войны шли и шли составы с побывавшими в плену фронтовиками, осужденными теперь на десять лет по 58-й статье, пункт 1 (измена Родине).
Мы пересказывали друг другу обстоятельства жизни последних лет воли и теперь — лагеря.
— Как мама, как сестры?
— Мамы и Реночки нет. Где-то похоронены без могил. Только Валечка жива. С детдомом была эвакуирована из Ленинграда. Не знаю, где она сейчас.
— Не слышала ли что-нибудь об отце?
— Ничего. Знаю только, что сидим оба. И отец, и я.
— Как и где Эрик?
— Эрик в Средней Азии. Тоже в лагерях. Имеет десять лет срока. Иногда пишет.
— Ну, и…
— Он — сам. Я — сама.
— Одна?
— Нет.
Я рассказала все. Увидев ужас на его лице, ужаснулась всему бывшему и сущему и я сама. Господи! Зачем он так плачет? Обо мне? О себе? О чем-то большем? Зачем же он так плачет. Боже?
— Не надо, не надо так…
— А это твое решение — верное? Иметь ребенка здесь? Сейчас?
— А где? И когда? Не беспокойтесь. Я смогу. Знаю, что смогу.
— Тогда, помнишь мою просьбу, если будет сын, назови его Сережей. Я буду его крестным отцом.
Ни он, ни я не вспоминали о Ленинграде, театрах, его любимой Сильве, о том, как он приходил меня встречать, о Яхонтове, о Москве, заклинании не ехать во Фрунзе, предложении выйти за него замуж.
За ним были война, страдание, плен, седина, срыв и старость. Все это невозможно было оговорить в один момент.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: