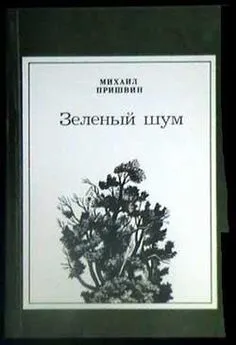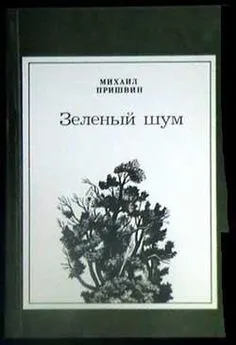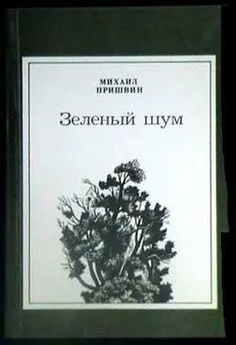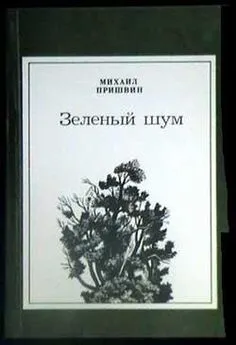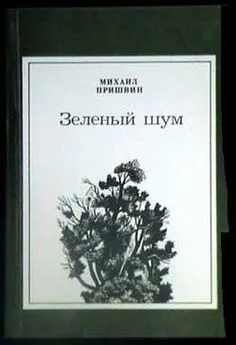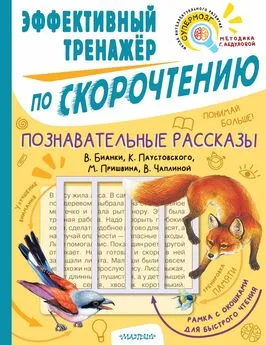Михаил Пришвин - Дневники. 1918—1919
- Название:Дневники. 1918—1919
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Издательство «Росток» E-mail: rostok_publish@front.ru
- Год:2008
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:ISBN 978-5-94668-059-2 УДК 882
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Пришвин - Дневники. 1918—1919 краткое содержание
Дневник 1918—1919 гг. представляет собой достаточно большой по объему документ, который можно считать летописью, но летописью своеобразной. Хотя дневник ежедневный и записи за редким исключением имеют точные хронологические и географические рамки, события не выстраиваются в нем в хронологический ряд.
Вопросы, которые поднимает Пришвин в первые послереволюционные годы, связаны с главной темой новейшей русской истории, темой, которая определила духовную ситуацию в России в течение столетия, — народ и интеллигенция.
Дневник первых лет революции — не только летопись, но и история страдающей личности.
Дневники. 1918—1919 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— А как же, — говорю, — хлебные карточки?
— Получаю, — радостно отвечала, — пять фунтов в день.
— Пять фунтов! дайте мне фунтик!
— Ну, что ж!
Отрезала фунт, а я ничего и не знал, что она этот фунт на шестнадцать человек раздает: даю ей пять рублей с полтиной, почем сам покупал у китайца.
Обомлела старуха:
— За что же?
— А такая цена. Хотите, каждый день буду платить за фунт пять с полтиной.
Покачала головой и ничего не сказала. На другой день беру у нее два фунта для приятеля, потом заказ получаю и все пять фунтов по пяти с полтиной беру ежедневно, и платим Игнатьевне 27 рублей с полтиной.
Приходят и теперь к старухе голодные люди — ничего нет для них у Игнатьевны.
Бог подаст!
Денежки откладывала по 2 полтины — до чего дошла: керенками не принимает — настоящими кредитками.
Неспокойная, не спит: видит, электрические лампадки горят и вдруг, неугасимые, потухнут, и их...
— Оружие искали: двадцать человек. Стучали, стучали: «Ломай!» — пол ломали они. Искали оружие, нашли деньги, взяли. На другой день прознали про лишние карточки (уполномоченный при обыске).
И так осталась Игнатьевна без хлеба и без денег и ходит злая-презлая между электрическими лампадками и все на большевиков, все на большевиков валит и просит немца на них.
4 Марта . Обратная сила войны все разрушила — с утра напеваю: «Порешили дело, все кругом молчат».
Еще при занятии Двинска пахнуло мещанством истинным, созданным нашей революцией, а не тем мещанством, которое у нас выражали словом «буржуазия». После занятия Двинска, я слышал, говорили: «А сахар в Двинске стал 16 копеек за фунт». После занятия Пскова в «Правде» стали изображать, как в начале войны, германские зверства: будто бы всех мужчин до 42 лет отправили в Германию. А мужчины до 42 лет свободно выезжали из Пскова и рассказывали, что все это вранье: немцы никого не трогают, и продовольствие стало превосходное. (Ремизов распространяет, что раздают бесплатно по коробке ревельских килек, а есть без хлеба.) На Фонтанке бомба разорвалась, будто бы, по «Правде», брошенная аэропланом, а народ говорил, что это сами большевики бросили, немцы же, напротив, бросают воззвания о том, что несут народу порядок. Это своего рода удушливые газы мещанства. Сначала огнем и газами, а теперь пудрой.
Вечером, вероятно, от голода внезапно заболела голова, едва отлежался — голод настоящий. Кто-то просит написать в сборник, который никогда не выйдет, совещаемся о сибирских детских журналах.
5 Марта . Эти дни проходят как ночи, и когда ночь наступает, то вспоминаем, что было с нами за день, как сон: политика и всё с ней — это как тот шевелящийся хаос, на котором тоненькой струйкой выводится то, что называется именно «сном».
— Сейчас я все, все вспоминаю! вот не забыть бы: выхожу я из столовой голодная, одну капусту ела в разных видах и без хлеба, выхожу на лестницу, а на площадке маленький мышонок хочет юркнуть в какую-нибудь квартиру и не может: все двери заперты. Что я подумала? «Будь, — думаю, — настоящий голод, не оставила бы я так этого мышонка! и так это скоро будет». Тянет меня почему-то этого мышонка погонять, стою на площадке и ногой его — он в одну сторону, добежит до приступочка и назад, гоняла я так его, гоняла зачем-то, вдруг он хватил через площадку и через решетку — бух! в пролет и с пятого этажа летит вниз, как плевок. Я туда, вниз, смотрю, он лежит на спине и ножками слабо дрыгает. Что это значит, к чему это?
Стою над мышонком, вдруг с улицы три военных человека:
— Подождите, — говорят, — не выходите — сейчас летит аэроплан, может бомбу бросить: тут безопасней.
Из столовой человек выходит:
— Русский или германский?
— Германский, белый с крестом.
— Ну, германский не бросит.
Ничего не понимаю: почему германский аэроплан не бросит бомбу, а русский может бросить? Смотрю на мышонка: он уже и ножками шевелить перестал.
Военный говорит:
— Мышонок!
Другой военный:
— Свалился, убился.
Третий военный:
— Вот подождите, скоро их есть будем [46].
Так пережитое за день как сон вспоминается, а то вдруг что-нибудь этим же днем вспомнится из прошлого давнего и таким близким представится.
Я вспомнил и вижу сейчас к чему-то черную гору в степи, Карадаг [47]. Мы едем вдвоем с охотником киргизом орлов ловить, беркутов. У меня в руке сеть, у него свежевынутое дымящееся кровавое сердце убитого горного барана Архара. На верху горы Карадаг живут беркуты, в домике мы ставим ловушку и кладем в ней кровавое сердце. Долго мы караулим в пещере. Вдруг орел выплывает спокойно так, будто запущенный детский змей, сделал круг и сразу сверху летит камнем, так что шум от него, и падает на кровавое сердце. Мы бросаемся к нему, запутался крыльями, голову запрокинул, клюв открыт, шипит, глаза — черный огонь. Хали живо его уматывал сеткой и, не разбираясь, на седло, и опять мы едем с добычей в аул.
Утренний час: козлы баранов в степь ведут, собаки, мальчишки, женщины окружают нас, радость общая — поймали орла!
И вот как мы орла приучаем к нашему делу: ловить зайцев, лисиц. В юрте от стены до стены мы протягиваем бечевку. На бечевку сажаем орла, привязываем лапы к бечевке, на голову надеваем кожаную коронку и закрываем ею орлиные глаза. Слепой сидит орел на веревочке, а киргизы нет-нет — и пошевелят веревочку. Орел дернется. Еще пошевелят — еще дернется. Вокруг всей юрты сидят киргизы на подушках, смотрят на орла, и все подергивают за веревочку, и орел все дергается, все дергается. Ночь наступает, гости расходятся, и, уходя, каждый пошевелит веревочку, и орел каждый раз дернется. Ночью, кто выходит баранов посмотреть, волков пугнуть — непременно пошевелит веревочку — орел и ночью не знал покоя. А утром опять все, кто входит, кто выходит — все дергают. Есть не дают и день и два, только дергают. У орла уже и перья пошли в разные стороны, нахохлился, голову клонит — раз, два, вот-вот повалится и будет висеть. Качнулся, справился. Еще раз качнулся, еще раз справился. Тогда открывают кожаную коронку, показывают орлу кусочек вываренного или белого мяса — только покажут! А потом дадут съесть. И потом опять на глаза корону и опять шевелят, дергают целый день веревочку. После белого мяса показывают красное, кровавое, дымящееся и пускают орла.
— Ка! — кричат. — Ка! — как собаке.
И орел, как собака, идет за кусочком мяса по юрте. Киргизы сидят на подушках, хохочут. Орел взял кусок, другой.
— Ка! Ка! — кричат.
И орел за каждым идет, у кого есть кусочек мяса. На лошади сидит киргиз, покажет кусочек:
— Ка!
И орел к нему на седло.
Вот заяц бежит, взлетает орел, кидается орел на зайца, когти впустил, кровь льется — сколько ему бы клевать!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: