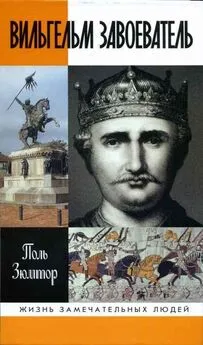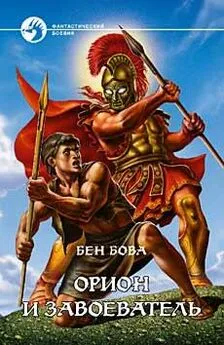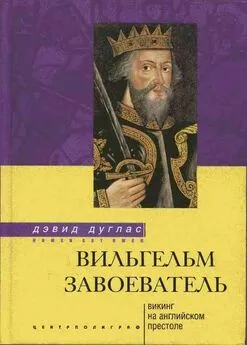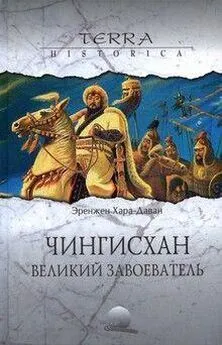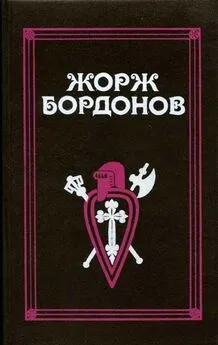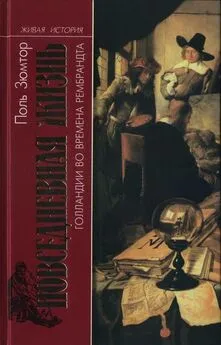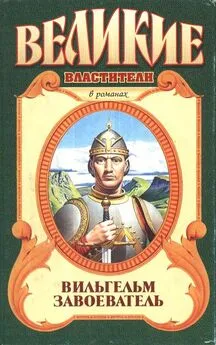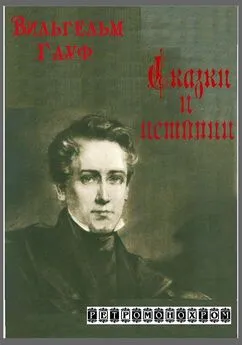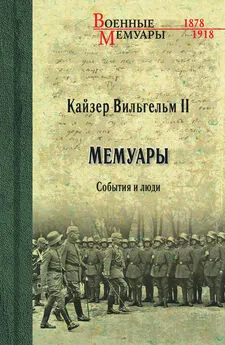Поль Зюмтор - Вильгельм Завоеватель
- Название:Вильгельм Завоеватель
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03305-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Поль Зюмтор - Вильгельм Завоеватель краткое содержание
Жизнь и деяния Вильгельма Завоевателя (1027—1087) принадлежат далекому прошлому, однако фигура нормандского герцога, ставшего королем Англии, интересует не только профессиональных историков. Уцелев в кровавом вихре войн и мятежей, незаконный отпрыск правителя Нормандии сумел не только железной рукой навести порядок в своих владениях, но и захватить Английское королевство, внедрив там прогрессивные для своего времени феодальные порядки. Вильгельм был груб, жесток, необразован, но его политическое чутье и энергия помогли осуществить преобразования в политической и культурной областях, определившие пути развития Европы на сотни лет вперед. Так считает известный французский историк Поль Зюмтор, автор биографии Вильгельма Завоевателя, впервые выходящей в серии «ЖЗЛ»
Вильгельм Завоеватель - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И так было во всем. Коллективная жизнь испытывала притяжение двух полюсов, двух традиций. Одна — интеллектуальная, моральная, эстетическая, — была результатом синтеза, осуществленного в период с IV по IX век, от Августина Блаженного до Рабана Мавра, методикой и секретами которого во Франции владели только люди церкви. Другая — та, что складывалась в течение трех или четырех веков в недрах массы неграмотного народа из элементов, почти неразличимых для нашего восприятия. Первая делала достоянием горстки аристократов духа культуру, по своему характеру чисто книжную, то есть основанную на владении грамотой, единственным инструментом, позволявшим овладевать знаниями и совершать открытия [4] Это был тип культуры, в основном продержавшийся вплоть до индустриальной эпохи, и память о нем до сих пор проявляется в том, что «культуру» индивида отождествляют почти исключительно с его книжными знаниями.
. Сам Бог был Словом. Однако языком книг служила исключительно латынь — международный язык, порой скрывавший под сакральными формами свое весьма отвлеченное содержание. Этому языку приходилось специально учиться, он был лишен органичной языковой среды, и большинство тех, кто владел им, использовали его исключительно в утилитарных целях, например для сочинения ученых трактатов. Клирики присвоили себе роль хранителей истории: в некоторых монастырях велись анналы — перечень местных событий, фиксировавшихся год за годом, иногда с приложением региональной хроники. Они хранили также секреты некоторых видов искусства, требовавших определенных знаний и потому недоступных для других, например, литургическую музыку, именуемую «григорианской», практически единственную дошедшую до нас от той эпохи, несмотря на несовершенство способа ее записи [5] Считается, что знаки, которые мы называем нотами, изобрел в начале XI века итальянец Гвидо д'Ареццо.
. Вокал включал в себя два типа пения — псалмодическое и мелодическое, причем второе подразделялось на силлабическое (один знак на произносимый слог), невматическое (два-три знака) и мелизматическое (более трех знаков). Трудность запоминания длинных мелизмов породила в IX веке практику применения тропов , дополнительных текстов, включавшихся в песнопение для поддержания голоса, что, в свою очередь, вскоре породило оригинальную поэзию.
Однако этот мир книжной культуры не замыкался в себе. Легенды, до которых столь охоч простой народ, проникали в анналы и хроники, а пение тропов могло влиять на не дошедшие до нас фольклорные мелодии — если не наоборот. Вообще, литургия давала наилучшую возможность для взаимовлияния этих различных традиций. Масса неграмотного населения постепенно приобщалась к достижениям культуры. Жизненная сила народа, прибитая бичом скандинавских и мадьярских набегов, вновь начинала крепнуть. Ростки нового, еще едва заметные, уже возвещали о скором наступлении расцвета. На протяжении жизни одного поколения распустились эти чудесные цветы — романская архитектура и скульптура, эпос и первые поэтические творения на народном языке. Таким образом, период примерно с 950 по 1050 год стал временем формирования великой культуры, когда во всех сферах жизни торжествовали оригинальные ценности, впитавшие в себя античный опыт, гармонично уравновешенный народными традициями.
Для клириков круг чтения составляли Священное Писание и книги Священного Предания. Что же касается мирян, то они слушали клириков, которые, правда, говорили мало. Нижний слой белого духовенства почти полностью отказался от практики чтения проповедей. Тогда не было ничего подобного современному катехизису; основным средством для ознакомления с положениями веры служила литургия, которая предполагала одновременно эстетический и символический взгляд на мир, когда историческая истина проникает в истину моральную, а внутренняя жизнь человека важнее законов. Способом видения реальности служило объяснение мира с помощью символики чисел: сорок — число искушения, пятьдесят — радости.
Христианство, по мере того как в период расцвета Средневековья оно завоевывало мир деревни, впитало в себя немалую долю древнего анимизма, латентно присутствовавшего в крестьянских традициях. Христианство стало ближе к простому народу. Оно глубоко укоренило в умах людей определенное количество элементарных понятий и образов, касавшихся прошлого, настоящего и будущего человека. Вместо античных космогонических представлений о вечном круговороте событий оно предложило сверхъестественную историю земной жизни Христа, давно завершившейся, но неизменно остававшейся той основой, на которой разворачивались современные события согласно пророчеству. Одновременно происходило долгое прямолинейное движение по направлению к искуплению грехов при посредничестве церкви, кульминационным моментом которого должно было стать второе пришествие Христа. Однако эмоционально окрашенная аура, окружающая эти понятия, восходила к античной магии. Набожность в глубинном смысле этого слова являлась исключительным состоянием души. Мирянин причащался и шел на исповедь только раз в году, но при этом признавал чудотворные свойства святынь, потому-то бережно хранились склянки с елеем, литургические сосуды и гостии, коим приписывались лечебные свойства и способность снимать порчу. Теология ученых-богословов не имела ничего общего с живой религией, когда люди испытывали восхищение и инстинктивный ужас, сталкиваясь с тем, что уму непостижимо. Священник, каким бы презренным и смешным человеком он ни был, окружался аурой таинственности, благосклонной или пугающей. Лгали, крали, а порой и убивали ради обладания реликвиями и военными талисманами, так что источник доходов церквей, принимавших паломников, никогда не иссякал.
Пространство между человеком и Богом населяли ангелы, демоны и святые, отдельные из которых странным образом облюбовывали себе источники или распутья дорог. Именно при их авторитетном посредничестве, как представляли себе большинство верующих, разыгрывалась драма спасения человеческих душ — драма, одной из пружин которой являлось чудо. Знали определенно, что такая-то святыня наиболее эффективна в таких-то случаях — у каждой из них была своя специализация. Милостыня, посредством которой покупали покровительство святых, становилась одним из наиболее мощных факторов экономического развития, приведшего к накоплению церковью огромных богатств. Торжественно заверяли, клялись именем Бога и его святых, прибегали даже к волшебным заклинаниям, применение которых тщетно пытались искоренить церковные суды. Заклинали злых духов, верили в оборотней и вампиров, вычисляли счастливые дни, ходили к толкователям снов. Леса, как и прежде, населяли гномы, добрые и злые духи — перевоплощения римских богов, в существовании которых ничуть не сомневались люди того времени, даже духовенство, отождествлявшее их с демонами. В Нормандии всяк знал, что герцог Ричард Старый водится с привидениями, выступая арбитром в их спорах. Простой же народ за магию принимал любое ученое знание.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: