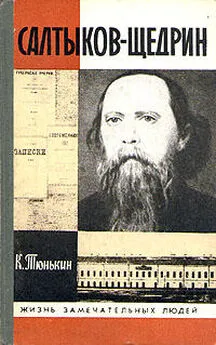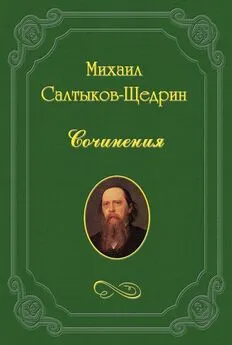Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин
- Название:Салтыков-Щедрин
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1989
- Город:Москва
- ISBN:5-235-00222-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Тюнькин - Салтыков-Щедрин краткое содержание
Биография великого русского писателя-сатирика — это драматическая история человеческой личности в ее неуклонном стремлении к идеалу и столь же неуклонном, непримиримом неприятии всего, что идеалу противостоит. Это история страстной, всегда неудовлетворенной, всегда ищущей, «горящей» мысли.
Салтыков-Щедрин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А вот и другой «племенной» молодой человек — «государственный п о слушник» Евгений Люберцев. И у него есть — даже не фраза, а «идея»: «Государство — это все... наука о государстве — это современный палладиум». Он готов всецело отдать индивидуум в жертву государству, причем уже начинает просто-напросто смешивать государство с бюрократией. Как «государственный п о слушник», пусть еще и не достигший особых высот на бюрократической лестнице, он пишет, как и положено, проекты, в частности, «о необходимости восстановить заставы и шлагбаумы» (на салтыковском эзоповом языке — всяческие карательные и запретительные меры). «Оказывалось, что заставы и шлагбаумы не только полезны, но и самое восстановление их может совершиться легко, без потрясений. Столбы старых шлагбаумов еще доселе стоят невредимы, следовательно, стоит только купить новые цепи и нанять сторожа (буде военное ведомство не даст караула) — и города вновь украсятся и процветут». Итак, еще один «проект обновления».
Герои двух первых рассказов раздела «Молодые люди» носят имена, и прослежен их жизненный путь. Но, перефразируя известную латинскую поговорку, можно было бы сказать, что все человеческое им чуждо, за масками «шалопая» и «государственного послушника» мы не видим человека. Не только каждый прожитый ими день — это «день белый», то есть пустой, бессодержательный, весь переполненный мелочами постыдными, но такая же белая и их жизнь.
Совсем иное — человеческое — содержание находит Салтыков в жизни и судьбе героев двух других рассказов раздела, героев страдающих, калечимых терзающими мелочами. Ирония, проникающая очерки о Сереже Ростокине и Евгении Люберцеве, резко сменяется скорбно-трагическим тоном рассказов «Черезовы, муж и жена» и «Чудинов». Это повествование о людях, лишенных естественного права на жизнь, любовь, «свет», о людях, до того втянувшихся в «одинокую», не знающую отдыха жизнь, утративших даже «ясное сознание, живут они или нет».
«Оба молоды и оба без устали работают» — так начинается рассказ о Семене Александровиче и Надежде Владимировне Черезовых, и этой первой фразой задан трагический художественный аскетизм салтыковского повествования о двух простых, робких людях, попытавшихся свернуть с той колеи мелочного существования, которая обеспечивала им по крайней мере надежду на самосохранение. Супруги Черезовы живут исключительно личным трудом. А удел таких людей — или изнуряющая работа, убивающая всякое сознание, или не менее изнуряющая, тягостная тоска, когда в одиночестве, почти одичании вдруг приходит сознание, способное вызвать лишь вопрос: «Зачем пришла и куда идет эта безрассветная жизнь?» Даже решение стать супругами, выбиться из колеи одиночества, не имело в себе ничего, столь, казалось бы, не только обычного, но и необходимого в таких случаях — ничего страстного. Слово «любовь» очень просто заменилось словом «работа»: «будем работать вместе».
А личный труд неверен, сегодня он обеспечивает средства для жизни, завтра — нет. О, это непрестанное чувство страха перед завтрашним днем, перед будущим, дверь в которое оказывается навсегда закрытой, «...труд без содержания, труд, направленный исключительно к целям самосохранения, окончательно заглушил в них всякие зачатки высших стремлений. Они не сознавали даже, что этот труд, который доставляет им дневной кошт, в то же время мало-помалу убивает их и навсегда лишает возможности различать добро от зла». Все их «больные беседы» сосредоточены на средствах самосохранения. «Калечимому» человеку непозволительно выйти из будничной колеи, суть которой: «жить надо — только и всего». Эта колея освобождала и от ответственности, и от высших стремлений, и от неверного будущего. Даже рождение ребенка вызывает не радость, а лишь растерянность и испуг. И смерть застает их врасплох. «Надя! — говорит, умирая, Черезов, — тебе будет трудно... Не справиться... И сама ты, да еще сын на руках. Ах, зачем, зачем была дана эта жизнь? Надя! Ведь мы на каторге были, и называли это жизнью, и даже не понимали, из чего мы бьемся, что делаем, ничего мы не понимали!» Мелочи истерзали и убили их.
Страстно, хотя и бессознательно жаждет вырваться из мелочного провинциального быта, из колеи, наезженной родителем, бухгалтером казначейства в отдаленном уездном городе, юноша Чудинов. Он мечтает о продолжении учения, об университете. Но Петербург далеко, а Чудинов беден. Главный расчет его — на свой собственный, личный труд, который обеспечит ему возможность учиться. С первых же шагов в Петербурге он оказывается опутан такими мелочами, о существовании которых и не предполагал. Личный труд, на который он так надеялся, не удается (кому он нужен?). За право учения надо платить, да к тому же для первокурсников теперь и мундирчики требуются. Но вот первые препятствия преодолены. «Учился он страстно, все думал как-нибудь выбраться, переждать суровую нужду. От чая отказался, от обеда — тоже. Платить двадцать копеек за обед оказывалось не под силу. Он брал на десять копеек два пирога в пирожной и этим был сыт. Но выбраться все-таки не удалось. Приходилось расстаться с заветной мечтой, бросить ученье. Для других оно было светочем жизни, для него — погребальным факелом. Всякую надежду на лучшее будущее предстояло оставить, сказать себе раз навсегда, что луч света уже не согреет его существования. И затем отдаться в жертву голодной смерти». Судьба отдала Чудинова в жертву той болезни, которая настигает мятущихся, нервных, голодных, — чахотке. Умирая в маленькой комнатке в дешевых номерах, размышляя о своей судьбе, он постепенно стал понимать, что «за ученьем может стоять целый разнообразный мир отношений. Что существует общество, родная страна, дело, подвиг... Что все это неудержимо влечет к себе человека; что знание есть не больше, чем подготовка; что экзаменами и переходами из курса в курс не все исчерпывается...» Для него занялась заря осмысленного существования, его стала волновать задача, о которой он раньше и но думал. Он оказался из числа тех самоотверженных юношей, которые беззаветно пошли к мужику, пошли «туда, где сгустился мрак, откуда слышатся стоны, куда до такой степени не проник луч сознательности, что вся жизнь кажется отданною в жертву неосмысленному обычаю, — и не слышно даже о стремлении освободиться от оков его». «В его воображении рисовалась деревня». Но что это была за деревня? Это была деревня идеальная, «так сказать, предрасположенная. Он представлял себе, что нужно только прийти, и не задавался вопросом, как будет принят его приход». И Салтыков задается вопросами, которые глубоко волновали его самого, когда он думал о той русской деревне, которую хорошо знал: «Согласны ли будут скованные преданием люди сбросить с себя иго этого предания? не пустило ли последнее настолько глубокие корни, что для извлечения их, кроме горячего слова, окажутся нужными и другие приемы? в чем состоят эти приемы? Быть может, в отождествлении личной духовной природы пришельца с подавленностью, охватившею духовный мир аборигенов?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: