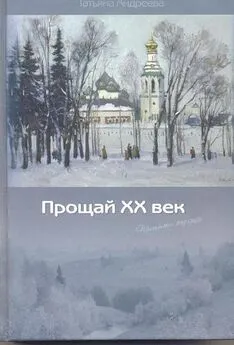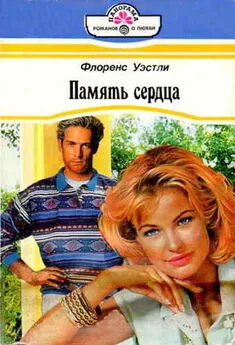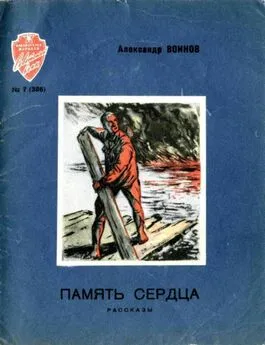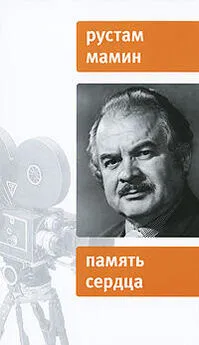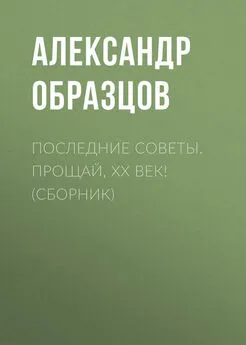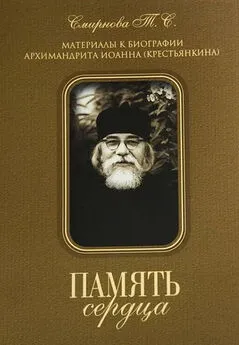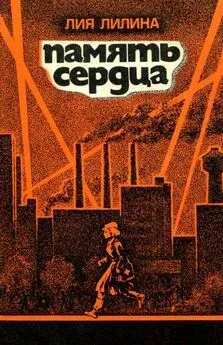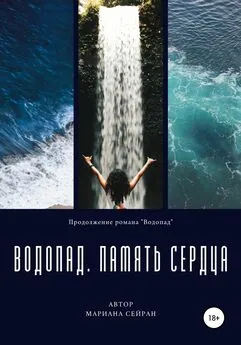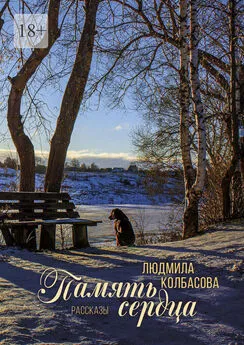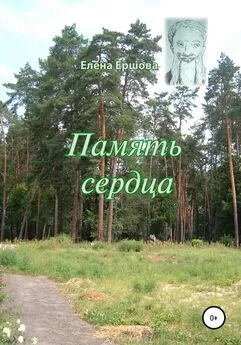Татьяна Андреева - Прощай ХХ век (Память сердца)
- Название:Прощай ХХ век (Память сердца)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Полиграф-Книга
- Год:2010
- Город:Вологда
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Андреева - Прощай ХХ век (Память сердца) краткое содержание
Татьяна Андреева. Прощай XX век. — Вологда: Полиграф-Книга, 2010. — 342 с. — 500 экз.
Век — не зверь (отклик из «Литературной газеты»)
Татьяна Андреева окончила Вологодский педуниверситет по специальности «иностранные языки», работала в альма-матер, в техническом университете. Кандидат филологических наук, без сомнения, принадлежит к интеллектуальной элите города. В молодости объехала много зарубежных стран, что само по себе было в те времена исключением из правил. Стажировалась в Оксфорде. Неожиданный портрет жёсткого времени и память женского сердца помогли автору написать эту книгу. Будто бы защищая свою эпоху от поспешных обвинений, Андреева даёт честный, ностальгический, до слёз трогательный очерк Вологды 60–80-х годов.
Описания вологодских магазинов 70-х годов напоминают полотна голландских живописцев. Северная природа изображена мастерски. Не просто беспристрастны, но и глубоки рассуждения о собственных первых стихах и вообще о поэзии. Поражают сказочные мистические эпизоды в Тарноге (районный центр Вологодской области, где Андреева работала в школе). Отражена и культурная жизнь Вологды — концертная работа, атмосфера ДК железнодорожников, черничный пирог, испечённый для Владимира Спивакова… Книга оформлена работами известного вологодского пейзажиста Валерия Страхова, которые очень созвучны светлой ностальгической интонации мемуаров.
Прощай ХХ век (Память сердца) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Глава 2
Море. Вологда. Поиски гармонии
Не знаю, что я люблю больше, лес или море. Есть в море и в лесу что-то для меня первозданное и материнское, я соединяюсь с водой и деревьями на клеточном уровне и ощущаю соприкосновение с ними как блаженство.
Мы едем к морю всей семьей, на поезде. Нас ждет первая в жизни встреча с Азовским морем, оно небольшое и мелкое, всегда теплое и считается «детским», туда везут детей из Харькова, Киева и других украинских городов, и, конечно, с севера. Родители везут нас всех троих — меня, Сашу и Лену. Лене еще только два года от роду. Родители выбрали на берегу Азовского моря маленький городок — Геническ, расположенный в самом начале Арабатской стрелы, песчаной косы, отделяющей море от Сиваша, соленого болота, называемого местными жителями Гнилым морем. Мы добираемся до Геническа почти двое суток, через Москву. В Москве останавливаемся у маминой тети, Маруси. Собственно Марусь было две — старшая и младшая (мамина двоюродная сестра). Старшая Маруся — сухонькая, маленькая женщина с неизменной папиросой «Беломорканал» в углу рта, по привычке оставшейся со времен Великой отечественной войны 1941–1945 годов. Она хранила в своем хрупком теле такую сердечность, такую доброту, которые не умещались дома, и старшая Маруся постоянно ездила по Москве ко всем родственникам, ближним и дальним, нуждавшимся в помощи и уходе. Если бы не она, я никогда не узнала бы маминой родословной, не встретилась бы с ее дядей-пианистом, которого звали Дормидонт, не увидела бы картин другого ее дяди-художника. Даже парадный портрет маминой бабушки по отцовской линии, Христины, висел почему-то в комнате тети Маруси. Как-то получилось, что мы тоже стали называть старшую Марусю тетей, и она не возражала. Младшая Маруся была моложе моей мамы лет на семь и отличалась удивительной малоросской красотой, воспринятой через мать от своих казачьих предков с Кубани. Когда младшая Маруся шла по улице, все мужчины оборачивались ей вслед. Статная фигура, красивые ноги и руки, лучистые карие глаза и рисованный яркий рот, черные кудри по плечам, притягивали взоры. Кроме того, она отличалась умом и редкой начитанностью. В то время она училась в МАИ, московском авиационном институте, одном из самых престижных институтов страны, и уже была замужем за Станиславом, студентом из ее группы. Жили Маруси в старом кирпичном особняке с толстыми стенами в центре Москвы, недалеко от старого Арбата, в Левшинском переулке. В доме сохранился прекрасный лифт с чугунными решетками, мраморная лестница, широкий гулкий коридор, ведущий от парадной двери к лифту. Там я впервые увидела, что представляет собой коммунальная квартира — один длинный коридор и ведущие из него двери в отдельные комнаты разной величины. В конце коридора — одна на всех ванная комната, сохранившая первозданный вид: большую фаянсовую, белую ванну на львиных ногах, старинный щербатый кафель в черно-белую «шашечку» и бронзовый кран. Современной была только газовая колонка, воспринятая мной, как чудо техники. Единственный туалет вносил в жизнь квартиры сумятицу по утрам, а кухня, тоже в единственном экземпляре, с ее многочисленными столиками, покрытыми клеенкой, примусами и керогазами, служила трибуной для выяснения отношений и нередких битв за столь дефицитное жизненное пространство. Публика вокруг жила разнообразная и не слишком дружелюбная. Сейчас трудно представить, но семья из трех человек, двух Марусь и Станислава, помещалась в комнате величиной, не превышавшей шесть квадратных метров. Наверное, до революции это был чулан, длинный и узкий с одним, выходящим во двор окном, до которого мне невозможно было дотянуться, а тем более выглянуть из него. Благодаря тому, что под потолком была большая ниша, родственникам удалось сделать в этом закутке спальню для молодых, и еще хранить там большую библиотеку — предмет моего восхищения и зависти. Мы с Сашей тут же обследовали это необычное жилище, взобравшись наверх по приставной лестнице. Вся квартира целиком казалась мне огромной и загадочной, как лабиринт, живущий своей тайной, отдельной от жильцов жизнью. Здесь хранился запах старого дома, городской запах натертого воском паркета, вековой пыли на недосягаемых, украшенных лепниной потолках и старых вещей, хранившихся в шкафах и сундуках длинного коридора. Мы останавливались в Москве обычно дня на два, на три — наш отец нежно любил цирк. Мне походы в цирк большой радости не доставляли, было жалко несчастных цирковых животных, вечно грязных и униженных. Хотя до сих пор вспоминаю дуэт Никулина-Шуйдина и замечательное зрелище — «Водяную феерию» в начале семидесятых годов — первое настоящее цирковое шоу в Советском Союзе. Та первая встреча с Москвой ограничилась для меня Марусями, их книгами и домом в Левшинском переулке, самого города я не увидела и не почувствовала.
Стучат колеса, качается вагон, путешествие к морю продолжается. Наша семья занимает целое купе. Мы с Сашей едем на верхних полках и целый день не устаем смотреть в окно, на пробегающие мимо леса, поля, реки, станции и полустанки. Именно так, «пробегающие», потому что в быстро идущем поезде, кажется, что поезд стоит на месте, а движется земля, меняясь и разворачиваясь свитком перед глазами. За Москвой начинается средняя полоса, а вдали цель нашей поездки — юг. Хвойный лес сменяется лиственным лесом, постепенно переходя в просторные степи с редкими перелесками и оврагами, поля пшеницы и кукурузы разбегаются от поезда лучами и растягиваются, упираясь в горизонт. На каждой станции торговки в белых платочках и в фартуках бегут к вагонам, торопливо предлагая свой нехитрый товар. До Москвы это — вареная картошка с солеными огурцами, но чем дальше к югу, тем разнообразнее и шире предложение: вот первые зеленые пупырчатые огурчики, вот черешни, потом яблоки и помидоры, наконец, вишни и абрикосы, и все это несут ведрами! В глазах рябит от ярких красок, в вагонах пахнет спелыми фруктами. Поезд, под летним солнцем накаляется так, что наружные поручни тамбура обжигают руки. В самом вагоне жарко, как в пекле, никаких охлаждающих приспособлений, кроме плохо работающей вентиляции, нет. Все окна открыты, мы снимаем с себя все, что только можно и все равно жарко и грязно от копоти, хлопьями залетающей к нам в окно от паровоза. Мы — потные, чумазые и ужасно довольные. Днем проезжаем мимо крупных городов — Днепропетровска, Харькова, Белгорода. На вокзалах суета и круговерть народа, спешащего куда-то с чемоданами, узлами и малыми детьми. Будучи офицерской семьей, мы много ездили, но меня всегда удивляло огромное количество штатских, перемещающихся по России в разные стороны и зимой и летом. Вокзалы всегда были набиты людьми, деловито снующими в залах ожидания. Мы вечно стояли в длиннющих очередях за билетами, иногда проводя в них целые сутки, притом, что отец был полковником, и покупал билеты в военной кассе. Основная масса пассажиров стояла в очередях в обычные кассы, и неделями ночевала на вокзалах. Однако большого уныния по этому поводу не наблюдалось, как будто этот людской круговорот, очереди, и долгое ожидание неизбежны и будут всегда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: