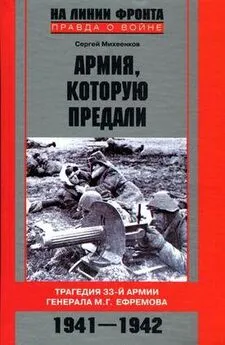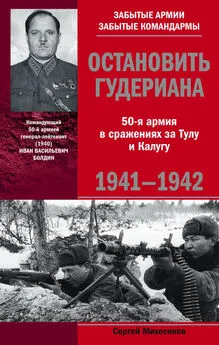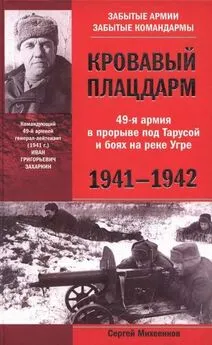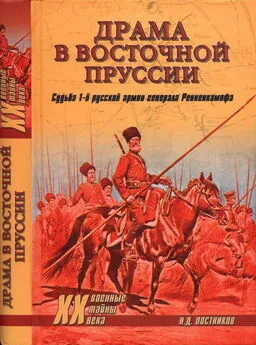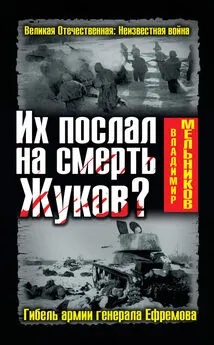Сергей Михеенков - Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942
- Название:Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9524-4865-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Михеенков - Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942 краткое содержание
Трагедия 33-й армии все еще покрыта завесой мрачных тайн и недомолвок. Командарм М. Г. Ефремов не стал маршалом Победы, он погиб под Вязьмой в тяжелом 1942 году. Защитник Москвы, освободитель Наро-Фоминска, Вереи и Боровска, сотен сел и деревень Московской, Калужской и Смоленской областей, он со своей армией дальше всех продвинулся на запад в ходе контрнаступления советских войск под Москвой, но, когда был окружен и возникла угроза плена, застрелился.
Историк и писатель Сергей Михеенков, долгие годы изучающий причины и обстоятельства гибели генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова и его армии, проливает свет на эти события. В своей книге, основанной на обширной архивной базе, он открывает неизвестные страницы истории второго вяземского окружения, рассказывает о непростых взаимоотношениях, которые сложились у генералов М. Г. Ефремова и Г. К. Жукова.
Армия, которую предали. Трагедия 33-й армии генерала М. Г. Ефремова. 1941–1942 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На вторичное предложение отправиться в тыл профессор Жоров категорически отказался. Решение Жорова не покидать войска явно понравилось Михаилу Григорьевичу. Он как-то мягко улыбнулся и сказал: «Молодец, профессор!» [167]
Числа 9–10 апреля 1942 года вся Западная группировка двинулась на прорыв. Дивизии пошли самостоятельным путем, а наша штабная группа, укомплектованная из остатков батальонов (связи, саперного, команды автоматчиков особого отдела и др. разрозненных подразделений) во главе с командующим двинулась своей дорогой [168].
Всем было ясно, что эта малочисленная группа только с ручным оружием была не способна к активным боевым действиям, поэтому наша задача сводилась к тому, чтобы в плотном кольце противника нащупать щель, через которую просочиться к своим {24} . Шли лесами, где еще лежал глубокий, тяжелый снег, затруднявший движение.
В ночь на 14 апреля 1942 года в лесу нас встретили пулеметным огнем. Мы отбивались от невидимого противника до рассвета.
В этом бою была тяжело ранена девочка 16–17 лет по имени Валя – работница столовой военторга. Михаил Григорьевич лично распорядился об оказании ей медицинской помощи (она очень кричала и плакала) и приказал на носилках сопровождать ее с войсками.
16 апреля на рассвете разгорелся бой у одной деревни (забыл название), которую мы пытались захватить в поисках продовольствия.
Не знаю, что случилось: или я потерял сознание, или просто забылся, но, когда пришел в себя, группы командующего не оказалось {25} . Наверное, они решили, что я убит. Больше Михаила Григорьевича я не видел.
Как держал себя в бою Михаил Григорьевич, можно подтвердить таким фактом.
Числа 14–15 апреля нас внезапно встретили сильным пулеметным огнем из вражеских танков, вкопанных в землю. Бойцы залегли, отстреливались, но не поднимались. Тогда Михаил Григорьевич поднялся во весь свой внушительный рост, с пистолетом в руках, впереди цепи, с выкриком «Товарищи! Бей фашистов!» пошел спокойным шагом вперед. За ним поднялись бойцы, и мы одолели простреливаемый со всех сторон участок боя сравнительно с небольшими потерями.
Мы намекнули Михаилу Григорьевичу, что он, как командующий, не имеет права так безрассудно рисковать. Позже, возвращаясь к этому вопросу, Михаил Григорьевич сказал: «А что мне остается делать, как командующему? Пулю в рот!» Тогда я не придал значения этим роковым словам, но мне казалось, что в боях он искал смерть.
Могу привести еще такой эпизод. Михаилу Григорьевичу стало известно, что командир дивизии (кажется, 113 Забайкальской) ранен в руку с повреждением кости и находится в лазарете. Он обратился ко мне и сказал: «Прокурор, разыщи комдива и передай, чтобы он командовал дивизией, в противном случае будет расстрелян» [169].
Я заметил, что при наличии костного ранения вряд ли целесообразно вступать в командование дивизией. На это замечание Михаил Григорьевич ответил так: «Командиру дивизии не нужны руки, ему нужна голова». Через несколько дней этот комдив в бою был убит [170].
Сопоставляя отношение Михаила Григорьевича к девочке Вале и требование к командиру дивизии, можно понять, что в его сердце вмещались отеческая забота о людях и неумолимые требования, вытекающие из жестоких законов войны.
Когда я отбился от группы командующего, мое одиночество стало особенно тяжелым. И тут я набрел на носилки, на которых лежала мертвая девочка Валя. Окропив слезами труп Вали, я заковылял куда глаза глядят, влившись в общий поток людей, идущих в никуда.
Числа 18–19 апреля 1942 года подошел к реке Угре, на противоположном берегу которой расположена деревня Козлы, занятая немецкими войсками.
Маленькая речушка в результате весеннего паводка превратилась в непреодолимое препятствие, и перед нами встал мучительный вопрос: что делать? Как вырваться из вражеского железного кольца?
В тот день с небольшой группой офицеров (3–4 чел.) подошел профессор Жоров, которому я несказанно обрадовался. Обсуждая вместе план прорыва, мы приняли решение, которое, казалось бы, не имело никаких перспектив на спасение.
Мы решили прорваться по реке Угре в сторону Юхнова, на пути к которому в 15–20 километрах, по нашим предположениям, должны быть наши войска. Но на чем прорываться? Необходимы плавсредства. И тут родилась идея: соорудить плот. Такой «плот» был сооружен из 6–8 бревен, связан веревками, свитыми из кальсон и рубах, и поясными ремнями. В 24 часа 20–21 апреля 1942 года проф. Жоров И. С. с 3–4 офицерами разместились на этом «плоту» и поплыли по течению в сторону города Юхнова. Операция не удалась. Вся группа была захвачена немцами. Как все это произошло, что было после – лучше расскажет сам тов. Жоров.
На следующий день я, три солдата и один офицер, на таком же точно «плоту», по тому же маршруту, с теми же надеждами поплыли по реке Угре в сторону города Юх нова.
На середине реки наш неуправляемый, без руля и ветрил «плот» закружило, завертело и понесло по своеобразным законам течения разбушевавшейся реки. Стало как-то жутковато: справа и слева враги, впереди неизвестность. Шансы на спасение сузились до размеров едва заметных даже под микроскопом большой мощности.
Приходили мысли, что мы попали между Сциллой и Харибдой, но положение уже нельзя было изменить. Плот несло независимо от нашего желания.
Продолжаем плыть. Над водой торчат одни лишь головы. Холодная вода давала себя чувствовать, коченели пальцы. Плывем вдоль высокого берега, покрытого мелким кустарником, слышим немецкую речь, очевидно наблюдательных постов. Что стоило фрицам глянуть вниз, и нам пришлось бы в лучшем случае разделить участь профессора Жорова.
Но темная ночь скрывала нас от вражеских глаз, и мы благополучно миновали особо опасные места. Путешествие продолжалось, наступил предательский рассвет. Вдруг раздался крик: «Хальт!» – и вслед автоматная очередь, в результате которой наш один солдат был ранен. Во время обстрела «плот» по изгибу реки резко повернул в сторону и мы скрылись.
Становилось светлее. Тревожили мысли, что ожидает нас впереди: враги? – все кончено. Свои? – спасение. Показалось солнышко, и вдруг раздался спокойный, четкий голос: «Стой! Кто идет?» Это оказались части не 43 армии, как об этом вспоминает тов. Жоров, а 50 армии, которой командовал генерал Болдин. Но как причалить к берегу, ведь «плот» неуправляемый. Но тут нам повезло: на пути следования показались кроны затопленных паводком деревьев, которые помогли нам, с помощью брошенной веревки, причалить к родным берегам. Спаслись и все остальные люди, испытавшие эту редкую по замыслу «прогулку».
Вот так и окончилось наше шестичасовое путешествие по реке Угре, которая нашла щель во вражеском кольце и спасла нас от смертельной опасности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: