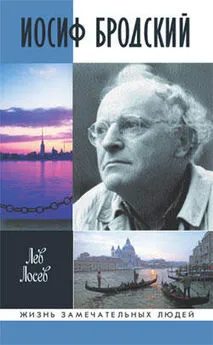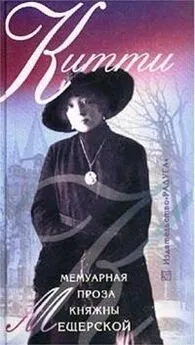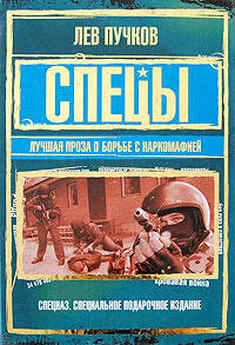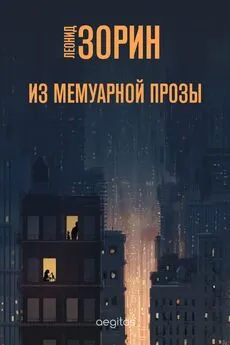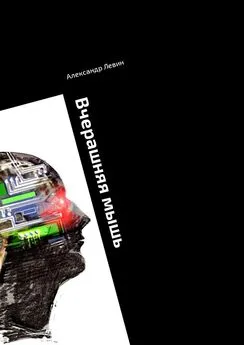Лев Лосев - Меандр: Мемуарная проза
- Название:Меандр: Мемуарная проза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-131-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Лосев - Меандр: Мемуарная проза краткое содержание
Издание объединяет мемуарную прозу поэта и литературоведа Льва Лосева — сохранившуюся в его архиве книгу воспоминаний о Бродском «Про Иосифа», незаконченную автобиографию «Меандр», очерки неофициальной литературной жизни Ленинграда 50-70-х годов прошлого века и портреты ее ключевых участников. Знакомые читателю по лосевским стихам непринужденный ум, мрачноватый юмор и самоирония присущи и мемуарной прозе поэта, а высказывания, оценки и интонации этого невымышленного повествования, в свою очередь, звучат в унисон лирике Лосева, ставя его прозу в один ряд с лучшими образцами отечественного мемуарного жанра — воспоминаниями Герцена, Короленко, Бунина, Ходасевича.
Меандр: Мемуарная проза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Бродский посвятил Герасимову стихотворение "Стрельна". Герасимов сказал, что это не потому, что они когда-то вместе гуляли в Стрельне, а по каким-то другим соображениям. Да и Стрельна в стихотворении имеет не много общего с настоящей. Я добавлю, что для Бродского Герасимов был петербургский genius loci. Где же его поместить, как не в парке единственного в городской черте дворца, который смотрит прямо на воды залива.
Город состоит из зданий, инфраструктур, населения и разговоров. Бродский в "Стрельне" не только изображает парк со статуями, но и перечисляет "красавиц тогдашних", "европеянок нежных". Это женщины, о которых в нашей молодости много говорили, и интереснее всех говорил Герасимов. Жаль, что в русском языке нет варианта слова "сплетня", в котором отсутствовало бы злое содержание, но присутствовало бы музыкальное. Я бы тогда сказал, что я заслушивался сплетнями Герасимова, переплетенными с экскурсами в историю живописи, музыки и архитектуры. Говорил он взволнованно, потому что был влюбчив, влюблялся во всех женщин, перечисленных Бродским, и в некоторых других, и немало принял от них надсады и горя. Я даже дважды навещал его в больницах, куда он попадал от страданий любви, правда ненадолго. Второй раз это был скорбный дом на Пряжке. Я не без волнения прислушивался к шуму голосов умалишенных, пока сестричка открывала для меня дверь отделения. Наконец дверь открылась. Первое, что я увидел, был большой транспарант на стене против двери: "ЛЕНИН С НАМИ!" Под транспарантом стоял Герасимов. На рукаве у него была красная повязка, и я подумал: "А может, он и правда тронулся?" Но нет, как раз за здравомыслие его назначили дежурным.
Единственный здравомыслящий в сумасшедшем доме — это неплохая аллегория той роли, которую играл Герасимов в Ленинграде второй половины двадцатого века. Он не кончил курса в университете, главным образом потому, что ему там стало неинтересно. Вместо этого он сам стал нашим университетом. Во всяком случае меня он просветил больше, чем пять лет лекций и семинаров на филфаке. Одаренный феноменальной памятью, он помнил все, что знал, а знал он невероятно много и постоянно пополнял свои знания. Задолго до эры компьютеров к нему можно было постоянно обращаться как к поисковой системе с той разницей, что отвечал он на вопрос мгновенно и по существу. Когда он приехал ко мне в гости в Нью-Гемпшир, я узнал от него немало интересного о новоанглийской архитектуре, в то время как моя жена вела с ним горячие дискуссии о местной флоре и фауне.
Разница между Герасимовым и компьютером, конечно, не только в том, что Герасимов больше помнит и быстрее соображает. Я думаю, что я и мои друзья чаще всего задавали Герасимову вопросы не только для того, чтобы получить информацию, но больше для того, чтобы получить заряд здравомыслия, доброжелательства и делового, уважительного отношения к культуре. И тут я уступаю слово Бродскому.
Никто не знал литературу и историю лучше, чем эти люди, никто в России не умел писать лучше, чем они, никто глубже не презирал наше время. Для них цивилизация означала больше, чем ежедневный хлеб и еженощное объятие. Это не было, как может показаться, еще одно потерянное поколение. Это было единственное поколение русских, нашедших себя, для кого Джотто и Мандельштам были императивами в большей степени, чем личное будущее. Бедно одетые, но все же как-то элегантные, тасуемые глупыми лапами своих непосредственных хозяев, бегающие, как кролики, от вездесущих псов Государства и от его еще более вездесущих ищеек, сломленные, стареющие, они все-таки сохраняли любовь к несуществующей (или существующей лишь в их лысеющих головах) вещи под названием "цивилизация". Безнадежно отрезанные от остального мира, они думали, что по крайней мере этот остальной мир похож на них; теперь они знают, что и остальной мир таков же, только лучше одет. Когда я пишу это, я закрываю глаза и почти вижу их, стоящих посреди обшарпанной кухни со стаканом в руке, с иронической гримасой поперек лица. "Да, да… — ухмыляются они. — Liberte,Egalite, Fraternite… Почему только никто не прибавит: Культура?"
Двадцать пять лет назад я переводил это эссе ("Меньше самого себя") на русский. По поводу приведенного пассажа я спросил у Бродского, не Герасимова ли он тут вспоминает, и получил ответ, что да, конечно, Герасимова в первую очередь.
Конечно, в этом взволнованном гимне есть черты и несвойственные Герасимову. Он не лысеет. Он всегда был немножко больше патриотом, чем космополитом. Наконец, он мог бы прекрасно писать, но, создатель великолепных устных текстов, он всю жизнь страдал аграфией. Но недавно случилось чудо: Герасимова нашел собеседник, сумевший превратить его дивные разговоры в литературный текст. И это дает надежду на то, что петербургский голос Герасимова услышат и через много лет после нас.
Яблоко Рейна
Есть слова Мальро, которые не становятся менее верными от зацитированности: "Художник рисует дерево не потому, что увидел дерево, а потому, что видел, как другой художник нарисовал дерево".
Рейн ходил к художникам, и я таскался за ним на невидимом поводке. Весной 1956 года таинственным и многообещающим было имя — Фальк. По темной лестнице мы поднялись на третий этаж. Фальк был смуглый, подсохший, старый человек с непонятно что означавшей улыбкой. Мы попросили посмотреть его "работы". Он провел нас в мастерскую.
Холсты стояли, прислоненные к стенам, подрамниками наружу. Рейн попытался повернуть один, но Фальк, неопределенно улыбаясь, не разрешил. Оказалось, что смотреть можно только неоконченную картину на мольберте. Это было тусклое изображение женщины, собственно не картина еще, а подмалевок. Мне показалось, что он покрыт пылью, хотя в темноватой комнате трудно было сказать наверняка. Палитра лежала на стуле рядом с мольбертом. Краски на ней окаменели. Вошла женщина, такая же сухая и смуглая, как муж. Она принесла художнику кушанье — коричневые комья на тарелке. Почему-то сочла нужным нам объяснить: "Рис с грецкими орехами". Мы уже начали понимать, что художник просто боится случайных посетителей, и пошли прочь.
Спускаясь по лестнице, увидели, что дверь в мастерскую этажом ниже открыта и другой старик, не в пример Фальку плотный и румяный, стоит в передней. По табличке на дверях поняли, что это Павел Варфоломеевич Кузнецов, и попросили разрешения войти. Павел Варфоломеевич собирался уходить, но остался и охотно стал показывать, одно за другим, свои среднеазиатские полотна. Пустыня у Кузнецова была не раскаленным адом, а пространством, где горизонтально жили легкие свежие краски — желтое и голубое главным образом.
В ту пору желтое и голубое не ассоциировалось у меня ни со Швецией, ни с Украиной, а только с Рейном. Я не переставал дивиться тому, что цвет можно воспроизвести словами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: