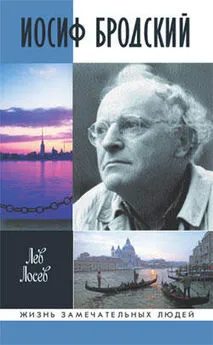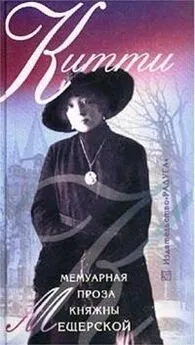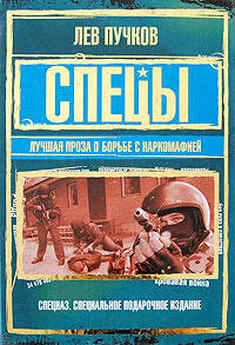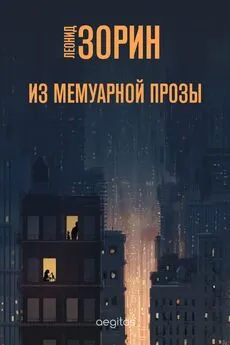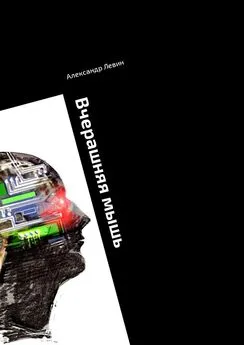Лев Лосев - Меандр: Мемуарная проза
- Название:Меандр: Мемуарная проза
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-131-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Лосев - Меандр: Мемуарная проза краткое содержание
Издание объединяет мемуарную прозу поэта и литературоведа Льва Лосева — сохранившуюся в его архиве книгу воспоминаний о Бродском «Про Иосифа», незаконченную автобиографию «Меандр», очерки неофициальной литературной жизни Ленинграда 50-70-х годов прошлого века и портреты ее ключевых участников. Знакомые читателю по лосевским стихам непринужденный ум, мрачноватый юмор и самоирония присущи и мемуарной прозе поэта, а высказывания, оценки и интонации этого невымышленного повествования, в свою очередь, звучат в унисон лирике Лосева, ставя его прозу в один ряд с лучшими образцами отечественного мемуарного жанра — воспоминаниями Герцена, Короленко, Бунина, Ходасевича.
Меандр: Мемуарная проза - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Умерли старший из "горожан", как их иногда называли, Борис Бахтин, и младший, Сергей Довлатов. Жизнь была недолгой, но литературная судьба Довлатова сложилась счастливо. До тридцати семи лет он жил на родине, где его как писателя подвергали бесконечным унижениям. Он об этом весело рассказал в своей "Невидимой книге". Он много работал, но практически ничего так и не смог напечатать в своей стране. Но вот что он пишет за три месяца до смерти: "Оглядываясь на свое безрадостное вроде бы прошлое, я понимаю, что мне ужасно повезло: мой литературный, так сказать, дебют был волею обстоятельств отсрочен лет на пятнадцать, а значит, в печать не попали те мои ранние, и не только ранние, сочинения, которых мне сейчас пришлось бы стыдиться". Это очень характерное для Довлатова высказывание; характерно и то, что он вставляет "так сказать" в упоминание своего литературного дебюта, и то, что он стыдится своих ранних сочинений, то есть тех самых, которые сразу прославили его в Ленинграде как необычайно одаренного молодого писателя. Довлатов всегда был слишком профессионален, чтобы гениальничать. Даже когда ему предложили назвать классика, который служит ему ориентиром, он назвал Куприна. Назвать Толстого или Чехова, с его точки зрения, было бы нехорошо, неловко.
Двенадцать лет его второй жизни, на Западе, — это взрыв литературной известности. Один за другим выходят циклы новелл, повести: "Компромисс", "Зона", "Заповедник" (моя любимая вещь у Довлатова), "Наши", "Иностранка", "Филиал". Навык изящного и точного письма помогает Довлатову стать одним из самых продуктивных и популярных эссеистов эмиграции. Его имя стало знакомо огромной аудитории на родине благодаря регулярным выступлениям по радио "Свобода". В англоязычном мире Довлатов из русских писателей, пожалуй, по известности стоит непосредственно вслед за нобелевскими лауреатами Бродским и Солженицыным. Только американцы знают, какая это мера литературного успеха — напечататься в журнале "Ньюйоркер". До Довлатова только одного русского прозаика признал журнал "Ньюйоркер" своим постоянным автором — Набокова. Успех Довлатова в переводах на английский интересен. Конечно, и сам Сергей охотно признавал, что есть писатели не менее, чем он, заслуживающие читательского интереса на Западе. Но, увы, непереводимы. То есть перевести-то можно, если постараться, и соответствующие идиоматические выражения подобрать, и найти правильный стиль. Но сама природа русского литературного художества слишком уж основана на взаимопонимании между писателем и читателем. Писатель и читатель уже и забывают порой, что говорят на языке намеков в третьей и четвертой степени, что словами они пользуются не для выражения идей, а вроде как междометиями. Попробуй переведи этакое. А Довлатов с его исключительно точным и красивым русским языком прекрасно переводится. Ибо та литературная школа, к которой он принадлежит, требует поиска точных выражений для точных смыслов, отдает предпочтение недосказанности перед лирическим излиянием, иронии перед патетикой. Такая литературная идиома, такая художническая ментальность, знакома читателям Генри Джеймса, Фолкнера или Чивера и Апдайка. Всякий специалист знает, что, несмотря на колоссальную роль, которую сыграла русская классика прошлого века в западной интеллектуальной жизни, английских текстов Гоголя, Достоевского и Толстого, по-настоящему адекватных оригиналам, нет. А вот Тургенев и Чехов на английский переводятся со всеми нюансами текста и подтекста. И Довлатов.
Можно сколько угодно объяснять иностранцу российские реалии, но они все равно до конца не уложатся в иностранной голове. Однажды, в качестве реального комментария к рассказу Трифонова, я долго рассказывал американским студентам, что такое коммунальная квартира, и даже чертил на доске план ленинградской коммуналки, где прошло мое детство. На следующей неделе читал их сочинения. Одна девушка решила написать художественно, воображая себя русской. Ее сочинение начиналось так: "С папой, мамой и братьями мы ютимся в коммунальной квартире. Гостиная и кухня у нас на первом этаже, а наши спальни на втором…" Довлатов по- английски читается так, как будто это не экзотический автор пишет об экзотической жизни, а свой писатель, какой-нибудь Джон Апдайк или Филип Рот, который знает, как рассказать американцам про коммуналки, фарцовщиков, дембелей, зэка в законе, чтобы они все поняли.
Наши последние разговоры крутились, главным образом, вокруг публикаций. В России Довлатова "открыли" и государственные, и "неформальные" издатели. Пожалуй, он отдавал предпочтение первым. Вторые его напугали. "Звонит мне один, говорит: издам в течение двух месяцев, тираж триста тысяч. Я спрашиваю, а продавать-то как будешь? А он говорит: а что продавать (в голосе Довлатова звенит восторженная интонация) — дам глухонемым по трешке, поставлю возле метро, и будут продавать". Довлатов и в нищих эмигрантских издательствах старался придать своим книгам привлекательный книжный вид: литературное изделие должно быть доведено до конца, отделано. Но главное — он был счастлив: его читают, будут читать. Он и моими публикациями в России занимался охотно и предусмотрительно: очень уж ему хотелось, чтобы была у нас нормальная литературная жизнь.
Как и все настоящие писатели, Довлатов немало писал о смерти. В "Соло на ундервуде" он с удовольствием цитирует заметку из нью-йоркской газеты "Новое русское слово": "В Гондурасе разбился пассажирский самолет. К счастью, из трехсот находившихся в нем пассажиров погибло только девять…" Там же из того же издания похоронное извещение: "Преждевременная кончина Марика Либмана". Одна из лучших новелл Довлатова первоначально называлась "Чья-то смерть и другие заботы", фабула ее основана на анекдоте: устроили официально пышные похороны партийного работника, но перепутали гробы в больнице. Автору — герою рассказа — в порядке общественной нагрузки надо выступить над могилой вдвойне неизвестного ему человека. И вот, когда он начинает свою бессмысленную речь, незаметно для читателя происходит перевоплощение, автор становится мертвецом: "Могилу окружали незнакомые люди в темных пальто. Я почувствовал удушливый запах цветов и хвои. Борта неуютного ложа давили мне плечи. Опавшие лепестки щекотали сложенные на груди руки. Над моим изголовьем суетливо перемещался телеоператор. Звучал далекий, окрашенный самолюбованием голос…" Он хотел, чтобы о смерти писали с юмором и грамотно, избегая самолюбования и прочей стилистической безвкусицы.
Юз!
Вот уж кто награжден каким-то вечным детством! Старость — замедление, а Юз быстр. Легок на подъем. Поехали! В Вермонт за водой из водопада, в русскую лавочку за килькой, в Москву на презентацию книги, в Чикаго на день рождения подруги знакомого зубного врача. Смена настроений стремительна. Ну его… Московские тусовки омерзительны. Чудовищно скучная баба. Разве ж это килька?.. А может, все-таки?.. Поехали! В Нью- Йорк к четырем утра — на рыбный рынок. Во Флориду — купаться. В Италию с заездом в Португалию… Реакции, как у летчика-испытателя. В июне 1983 года мы были вместе на одной конференции в Милане, а потом наметили несколько дней полного отдыха в Венеции. Утром сели в поезд, болтали, поглядывали в окно на скучные ломбардские пейзажи, слегка выпивали, закусывали. В Вероне поезд остановился на втором пути, а по первому пути, прямо по шпалам, набычившись, таща в каждой руке по чемодану, шел поэт Наум (Эма) Коржавин. Очень плохо видящий, он в этот момент целеустремления, видимо, и не слышал ничего — а навстречу ему быстро шел поезд. От ужаса я обомлел. А Юз рванул вниз окно и зычно крикнул: "Эма, ты куда?" Не удивившийся Коржавин мотнул головой и крикнул в ответ: "В Верону". Дикие русские возгласы привлекли внимание железнодорожника на первом перроне. Он спрыгнул на рельсы и оттолкнул вбок Коржавина с чемоданами. Через секунду промчался встречный. Юз плюхнулся на свое место и сказал: "Эмма Каренина…"
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: