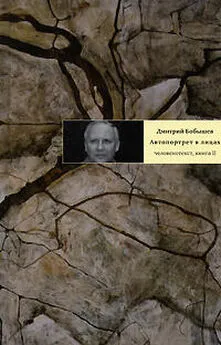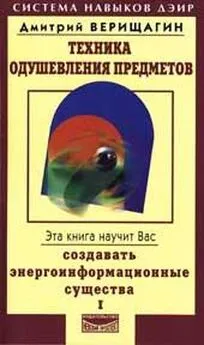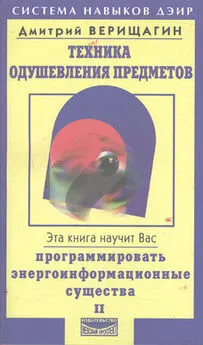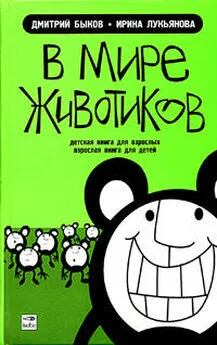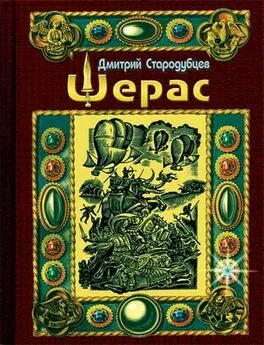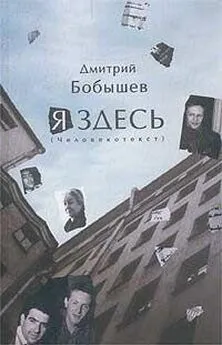Дмитрий Бобышев - Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2
- Название:Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Бобышев - Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2 краткое содержание
Автор этих воспоминаний - один из ленинградских поэтов круга Анны Ахматовой, в который кроме него входили Иосиф Бродский, Анатолий Найман и Евгений Рейн. К семидесятым годам, о них идёт речь в книге, эта группа уже распалась, но рассказчик, по-прежнему неофициальный поэт, всё ещё стремится к признанию и, не желая поступиться внутренней свободой, старается выработать свою литературную стратегию. В новой книге Дмитрий Бобышев рассказывает о встречах с друзьями и современниками - поэтами андеграунда, художниками-нонконформистами, политическими диссидентами, известными красавицами того времени... Упомянутые в книге имена, одни весьма громкие, другие незаслуженно забытые, представлены в характерных жестах, диалогах, портретных набросках, письмах и драматических сценках.
Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На следующее утро мы с Егельским спускались в подвальчик на Лиговке, где тогда находилась «Ленводспецналадка». Юра Климов, теперь уже мой новый начальник, оказался бывшим однокурсником Коки Кузьминского по биофаку, бредил поэзией, сам когда-то пописывал и выразил полнейший ко мне пиетет.
И вместе с Егельским мы отметили это дело «кутежом трёх князей» в ресторане на Московском вокзале.
ПОСТНОЕ И СКОРОМНОЕ
Моё наполовину выветрившееся инженерство не обременяло сознания, но, как и на престижном телевизионном поприще, так и на смиренной пусконаладке было нелишним приложением ко мне самому. Глубоких технических знаний или особенных навыков там не требовалось. А вот ореол некоего небожителя, спустившегося добровольно (да хоть бы и вынужденно) в низы, на предпоследний лимб советского общества, приблизившись к истопникам, сторожам и прочим париям, этот ореол мне первое время сопутствовал – может быть, благодаря мифотворчеству Егельского. Он любил дружески пообщаться с коллегами-наладчиками в дни получек (а в иное время все, как считалось официально, разъезжались по объектам), и, чокнувшись гранёными стопками в ближайшей рюмочной, пораспросить напарника, закусывающего бутербродом с яйцом и килькой, о том о сём и после этого, зайдя ко мне в надежде на продолжение, повздыхать с восторженным удивлением:
– Какие люди! Какие люди!
И в самом деле, люди были матёрые, инициативные, действующие в одиночку и все до единого переживающие какой-нибудь жизненный кризис. У одних не заладилась научная карьера, как у самого Жени, по причине чрезмерной близости к источнику этилового спирта, нужного для лабораторных исследований, у других поломалась семья по схожим причинам и, за вычетом алиментов, поддерживать свои привычки было не на что, кроме как на командировочные, оброком этим не облагаемые. Но были и полутрезвенники, и совсем непьющие из хрупкой, недолговременной категории «завязавших». Был среди этих последних писатель-нелюдим, так никогда и не вышедший из подполья. Был и океанограф, изъездивший многие моря, но ставший за какую-то провинность невыездным. В своих исканиях он поступил в наладку, принял православие (между прочим, мой крестник), затем побыл некоторое время толстовцем, прежде чем переметнуться в иудаизм и осесть со статусом беженца в Германии.
Моими стараниями был принят в контору Вениамин Иофе, впоследствии глава ленинградского «Мемориала». Вот уж кто был «матёрый человечище» и «рыцарь белого камина», всё в кавычках, так как первое высказывание – из Николая Ленина о Толстом, а второе – из Василия Кулаковского, бывшего главного редактора газеты «Технолог» о самом Вене. После отсидки по делу «Колокола» этот умнейший человек вместо того чтобы быть в Афинах Периклетом, прозябал на изнурительной работе в цеху по производству фанеры. Но и там его ущемляли. Перейдя к нам, он превратил и без того богатую талантами пуско-наладку в альфа-подразделение интеллектуальной элиты!
Сама работа относилась к типу «хоть-стой-хоть-падай», то есть не требовала почти никаких усилий. Под благородным лозунгом охраны окружающей среды по всей области начали строиться сооружения водоочистки. За этим процессом присматривали «специалисты» вроде меня и вышеописанных. Но, как верно обрисовал ситуацию Егельский, обязанности наладчика сводились к тому, чтобы изредка съездить на строящийся объект, убедиться в отсутствии прогресса, написать грозное напоминание местному начальству и закрыть у него «процентовку» на месяц. И начальство это, ко всегдашнему моему удивлению, охотно отстёгивало свои фиктивные деньги за наши столь же фиктивные услуги. А зарплату мы всё-таки получали в рублях. На том всё стояло.
Я бурно сочинительствовал, отделывая каждую строку, каждое слово, и это наслаждало мой вкус. Слова складывались, образуя стиль, оснащённый мыслями великих праведников, но выраженными в моих звуках и образах. А можно ли так писать, льзя ль? Вспоминались запрещающие доводы из писем Красовицкого, споры с Найманом, вспоминались тяжёлые укоры родни по поводу влияния моих стихов на психическое здоровье брата и племянника. А между тем оба они стали моими крестниками – это ли не довод? Ко мне нередко обращались за этим. Я их всех, зовомых оглашенными, отвозил на Охту, к отцу Василию Лесняку в кладбищенскую церковь. Отстаивали мы там литургию, ставил я свечу Всем Святым за моих дорогих, на том кладбище лежащих, а потом покупал дешёвый крестик для новообращаемого, и после окончания службы приступали мы к таинственному обряду.
«Отженяешься ли от сатаны? Говори: “отженяюсь”»! – «Отженяюсь!»
Так крестили мы не только племянника, но и его отца, а моего двоюродного брата. Крестили сына телевизионной раскрасавицы Тани Миловидовой, ставшей таким образом моей кумой. Лёшу Любегина, прозаика, одного из любимцев Давида Яковлевича Дара. Серёжу Кочетова, программиста. Леночку, между прочим, Захарову. И других. Словом, пробили некоторую брешь в диалектическом материализме.
Отца Василия вскоре перевели в удельнинскую церковь, он тому очень радовался. В Удельном ведь он и жил. Частенько туда приглашал – и на службу, и к себе домой. Однажды собрались в его светёлке Олег, да Наташа, да я. Ещё, кажется, был Сергей. Все – поэты. Душеспасительно беседовали. Шли потом к станции, обходя огромные лужи. Разряжались после чинных разговоров. Дурашливо шутили. Олег взял Наташу к себе на закорки, её сильные ноги в светлых блестящих чулках обнажились. В электричке она выглядела очень миловидно: рыжеватые кудельки, бледная в веснушках кожа, грустноватые глаза и большая улыбка, вздрагивающая от смеха. С вокзала я пошёл её провожать. Она окончила Библиотечный институт, там же защитила диссертацию, и нечто, роднящее всех библиотекарш и училок присутствовало, увы, не только в облике, но и в её пресноватых стихах. Мы с ней как-то по-деревенски просто сблизились, без излишних ухаживаний, – все эти прелюдии заменило взаимное знакомство со стихами. Её были бесхитростны, лишь кое-где за обкатанными образами мог я теперь угадывать живой телесный жар её существа. Простодушно показала она мне все шрамы: её многократно оперировали от спаек в кишечнике. Эдакие подробности меня отнюдь не оттолкнули – наоборот, растрогали и ещё более сблизили: у меня в прошлом был такой же печальный опыт – один, но чуть не фатальный.
Это случилось спустя год после того, как меня едва не убили местные в Сталиногорске. Всё уже давно зажило, как вдруг ночью тупо заболел живот. Боль прибывала по миллиметру, а к утру выросла размером с дом. Скорая увезла в заводскую больницу, где ленивая врачиха посчитала, что у меня пищевое отравление. Но и от этого не лечили, что, впрочем, к счастью, а то было бы хуже. Через сутки меня навестила мать и попросту спасла, заставив врачей перевезти меня в Мечниковскую. Хирург Мирзаев немедленно вспорол мне брюшную полость, освободил от спаек и заново переложил кишечник.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: