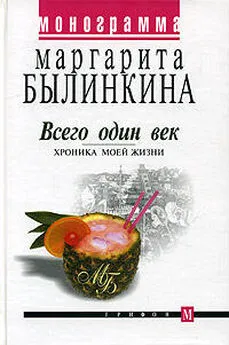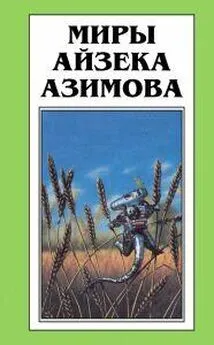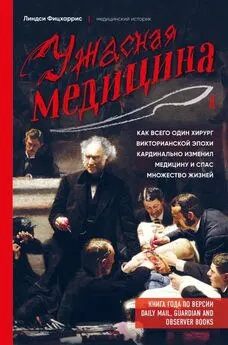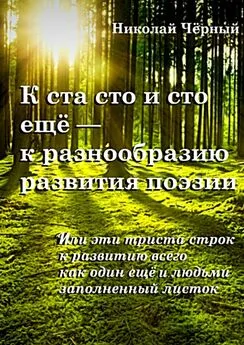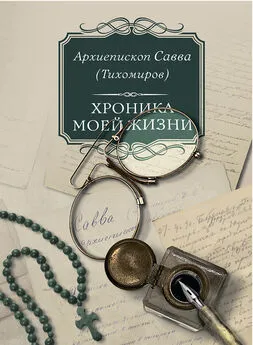Маргарита Былинкина - Всего один век. Хроника моей жизни
- Название:Всего один век. Хроника моей жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Грифон
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-98862-019-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Маргарита Былинкина - Всего один век. Хроника моей жизни краткое содержание
Маргарита Ивановна Былинкина — филолог, писатель и переводчик художественной литературы с испанского и немецкого языков. Она — автор перевода романа «Сто лет одиночества» классика мировой литературы Г. Гарсия Маркеса, а также многих других известных писателей, в том числе Х. Л. Борхеса и Х. Кортасара.
«Всего один век» — автобиографическая хроника, в которой автор слегка иронично и откровенно рассказывает о примечательных событиях из своей долгой жизни, о путешествиях в Аргентину, Мексику и другие страны, о конфликтах и преодолениях, о женской логике, любовных историях и многом другом.
Всего один век. Хроника моей жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Чаковский мог позволить себе подобный кураж: он был вхож в кулуары Центрального комитета и знал, куда ветер дует. Но еще надо было и хотеть себе такое позволить. А он хотел и потому обратился в редактора-эквилибриста, который поддерживал равновесие интересов читателей и власть предержащих, хотя и не подвергая себя особому риску. В ту пору, например, широко известный в мире Борхес не мог попасть на страницы журнала, хотя и написал несколько антиперонистских, по сути своей антидиктаторских новелл, в том числе рассказ «Монстр». Я поделилась своими соображениями с Чаковским, но главный редактор дал понять, где проходит граница разумного для сотрудников его журнала: «Борхес, да, он против диктаторов-каудильо, но он — антисоветчик». Мне подумалось: «А велика ли разница?», но инструкция была принята к сведению.
Тем не менее в команде Чаковского были не просто профессионалы-литературоведы, а литературоведы-вольнодумцы, во что бы то ни стало желавшие опубликовать в журнале лучшие художественные произведения того времени. Иногда, под соусом «антиимпериалистичности темы» или «прогрессивности автора» это удавалось таким маститым членам редколлегии, как дородный «мистер Пиквик», Николай Николаевич Вильям-Вильмонт, златоуст Николай Борисович Томашевский, специалистыдиссиденты (уехавшие в 88 году в Германию) Раиса Орлова и Лев Копелев и другие.
Заместителем главного редактора был опасливый, но бесхитростный Савва Артемыч, точнее, Савелий Артемьевич Дангулов, бывший разведчик, а ныне писатель-любитель, добродушный кавказец с удивленными черными глазками, словно он не переставал удивляться литературным шедеврам, то и дело ему открывавшимся.
Сотрудники журнала работали по принципу «знай, чего нельзя, и делай, чтобы можно». Кроме того, чтобы протащить в журнал стоящий материал, надо было профессионально и политически гибко отредактировать литературный перевод. Это негласное требование помогало редакторам подбирать слова, смягчавшие настораживающий смысл произведения, могущий показаться Главлиту опасным. Материалы шли в журнал косяком, редакторы не справлялись. Поэтому вскоре все референты были объявлены редакторами и включены в отделы критики, публицистики, художественной литературы и информации. Мне снова предстояло осиливать новую профессию.
В редакторском деле я была полным профаном, но кое-что уже успела опубликовать (две статьи о Мартине Фьерро) и кое-что написать (диссертацию), и потому оказалась в отделе публицистики под началом Прожогина. Николай Павлович Прожогин — вылитый Молотов: курносый, в очках, с неменьшими амбициями, но ростом повыше, — был младше меня года на два. Он окончил МГИМО и засиживаться в журнале завотделом публицистики явно не намеревался, открыто флиртуя с газетой «Правда». Не прошло и нескольких лет, как Прожогин отправился спецкором «Правды» в Марокко, а затем в Италию. Пока же, строя из себя закоренелого журналиста, муштровал своих новоявленных редакторов, меня и Словесного. «Пвохо, — слегка картавя, говорил он, разглядывая наши первые редакторские работы. — Пвохо».
Моим соседом по столу у окна оказался Алексей Николаевич Словесный, окончивший арабское отделение Института востоковедения. «Алешка», как за глаза называли этого степенного юнца с вечной сигаретой во рту, был славный малый с хорошим литературным вкусом, но с явно восточной флегмой. Он, в противоположность Прожогину, никуда и никогда не спешил, «Иностранке» изменять не собирался и, оседлав ее, потихоньку ехал на ней вперед и только вперед. Со временем Словесный сделался ответственным секретарем журнала, позже — заместителем главного редактора, а к своим шестидесяти годам стал вальяжным и лысым главным редактором, потеряв былую стройность, миловидность и пышные волосы, но получив в награду за верность черную «Волгу» и бывший кабинет Чаковского.
Нередко в отдел публицистики заходил поболтать завотделом критики мудрый долгоносый Павел Максимович Топер. Умелый литературовед, он ухитрялся проводить через редколлегию и публиковать острые, огнеопасные статьи. Одним из наших любимых занятий — в отсутствие Прожогина — было сочинение друг на друга и на остальных сотрудников своего рода незатейливых эпиграмм, в которые следовало вклинить узнаваемые фамилии.
В моих архивных материалах я нашла эти записки. На меня Топер написал такое:
БЫЛИНКИ НА солнечном поле
Растут, колосятся, цветут;
Одна лишь в тяжелой неволе
Делами замучена тут.
Я не осталась в долгу у Топера.
Как всемогущий вездеход,
Он в дебрях жизни не терялся:
ТО ПЕР настойчиво вперед,
То боком тихо прибирался.
Алеше Словесному было выдано следующее:
СЛОВЕСНЫЙ дар что божья благодать.
Любому можешь стать ты сватом,
Прослыть Софоклом иль Сократом.
Любой работы избежать.
О Прожогине я написала:
С грядущего завесу никто сорвать не смог,
Но кое-кто готов дерзать.
В завесе дырку он ПРОЖОГ
И начал в дырку пролезать.
Атмосфера в журнале в первые годы существования «Иностранки» была удивительно легкой и вдохновляющей. Все мы жили в духовном уюте и работали с искренним азартом. Чаковский был не прост, довольно своенравен, любил незлобно поорать, но быстро приходил в себя и не стеснялся признаться в своей неправоте. Однажды я, временно исполняя обязанности ответственного секретаря, допустила какой-то промах. Он на меня мимоходом накричал, я пустила слезу и тотчас была вызвана к нему в кабинет, где «Чак» быстро и даже смущенно заговорил: «А вы на меня кричите! Я кричу, а вы на меня, на меня кричите!»
Интереснее и увлекательнее всего было общение с такими авторами журнала, как, например, известный и неистощимый рассказчик Ираклий Андронников или создатель кукольного театра Сергей Образцов, охотно вспоминавший эпизоды из своей актерской жизни, особенно о том, как из тенора-певца он превратился в кукольника.
Интересны были и встречи с зарубежными писателями, особенно частые с сочинителями из соцстран.
Рядом с нашим домом-усадьбой находился (и находится) на Поварской, 50 дом, тоже интересный своей историей и своим последующим предназначением. В этом старинном особняке, где некогда собирались московские масоны, разместился Центральный Дом литераторов (ЦДЛ) со своей библиотекой и рестораном. В ресторане обедали сотрудники журналов и служб СП, а также принадлежавшие к высшей писательской гильдии члены Союза писателей СССР. Мы, сотрудники, довольствовались обедами из дежурных блюд, а творцы советской литературы подкреплялись каждый на свой лад и по своим средствам.
В уютном, обитом деревянными панелями «дубовом зале» ресторана можно было часто видеть прозаика Олешу, который «обедал» рюмкой водки с одной шоколадной конфеткой, или поэта Светлова, которому вообще хватало лишь стопки русского напитка. А вот поэтическая пара — розовощекая прелестная Белла Ахмадулина и юный «Буратино» Евгений Евтушенко — каждодневно праздновали свою молодую влюбленность, щедро заливая порционные блюда хорошими грузинскими винами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: