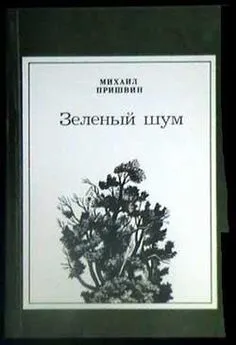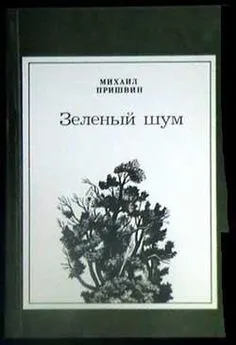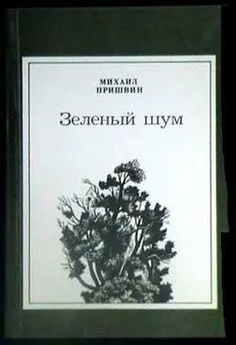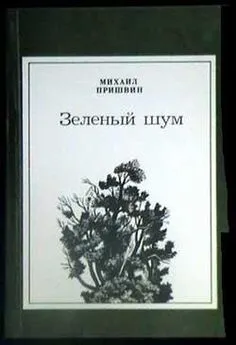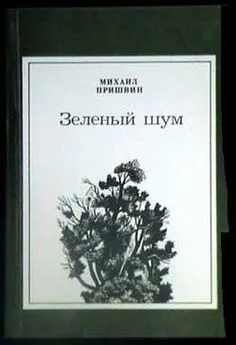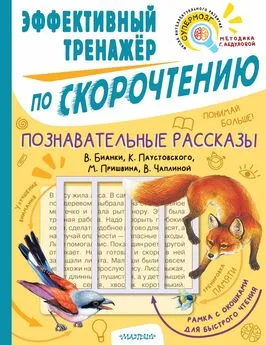Михаил Пришвин - Дневники 1928-1929
- Название:Дневники 1928-1929
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русская книга
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-268-00566-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Пришвин - Дневники 1928-1929 краткое содержание
Книга дневников 1928–1929 годов продолжает издание литературного наследия писателя.
Первая книга дневников (1914–1917) вышла в 1991 г., вторая (1918–1919) — в 1994 г., третья (1920–1922) — в 1995 г., четвертая (1923–1925) — в 1999 г., пятая (1926–1927) — в 2003 г.
Публикуется впервые.
Дневники 1928-1929 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В таком понимании социализм как любая секта, заменяя универсальную истину какой-то частью, упорно и часто искренне выдает ее за целое («Рев. движение (интеллигенции) в России несомненно отразило в себе характерные черты народного расколо-сектантского движения… В интеллигенции сложились такие же секты, из которых каждая имела претензию на универсальную истину. Победившая всех их секта большевиков до сих пор борется за универсальность (интернационал) и на наших глазах постепенно омирщается… Если для каждой из сект основным вопросом существования является борьба за универсальность, то в секте интеллигенции этот мотив доходит до крайности, ради универсального все бытие объявляется мещанством, как нечто местное (ничего у себя дома и все в интернационале»).
В то же время «метаморфоза экономического материализма в воинствующий идеализм» отнюдь не кажется ему безобидной. В новой реальности происходит перекодировка культурных символов: Дон Кихот становится образом разрушительной силы воинствующей утопии, а мельница — знаком повседневной жизни человека («Когда я читаю о Рыцаре Печального Образа, как он с копьем наперевес мчится, я всегда вхожу в положение мельницы: ведь это случайность, каприз автора пустить ее в ход как раз в то время, когда мчался на нее Дон Кихот; что, если бы дело происходило в безветренный день, то ведь очень возможно рыцарь поломал бы ей крылья и лишил бы на некоторое время население возможности обмолоть свое зерно. Я живо вхожу в положение мирной, беззащитной, всем необходимой мельницы и всей душой ненавижу рыцаря, наделенного всеми хорошими качествами и только смешного, но не страшного. А он страшен…»). Это окончательное развенчание утопического проекта революции, который по сути своей противоположен живой жизни, и потому, каковы бы ни были его цели, пути осуществления оказываются разрушительными («Почему так случилось, что наши коммунисты, признающие материализм как догмат веры… практически являются идеалистами, совершенно ничего не видящими у себя под носом?»).
1929 год развеивает все надежды на изменение жизни в лучшую сторону («Политическая атмосфера сгущается до крайности», «Кончилась «передышка» Ленина. Начинается сталинское наступление»). Формулировки Пришвина предельно кратки и исчерпывающе точны. Эмоций нет, жалоб на жизнь или страха за будущее тоже нет — это данность, которую нужно учитывать, бороться с ней бесполезно, понимать — необходимо, обходить, по возможности, нужно. Но все же Пришвин недоумевает («-Надо спросить кого-нибудь понимающего, почему же именно был взят левый курс, когда все были уверены, что наступил термидор и окончилась революция»).
В 1928–1929 годах лейтмотивом дневника остается идея творчества («Творчество — это воля к ритмическому преображению Хаоса, это реализация запросов бытия и сознания, жизнь, пробивающая себе путь к вечности») и идея творческой личности («реальность в мире одна — это творческая личность»). Пришвин в эти годы вновь и вновь подтверждает для себя актуальность известного русского сюжета: рост внутренней свободы за счет утраты внешней. Однако утрата внешней свободы становится все более и более ощутимой, соответственно бороться за внутреннюю свободу все труднее и труднее, и платить за нее приходится все более дорогую цену. Тем не менее никакого другого выхода Пришвин, как и в прежние годы, не видит: в то время, когда идет тотальное наступление на личность («Непосильное требование к человеку, чтобы он забыл свою личность и отдался коллективу», «это скачки через творческую личность человека, через бытие его»), единственным продуктивным способом деятельности писатель вопреки господствующей идеологии признает «чисто духовный процесс материализации духа — личность»; оксюморон — «материализация духа» — многократно усиливается в новой реальности, отрицающей и дух как таковой, и личность как таковую; задача приобретает небывалую остроту, а может быть, и некоторую «виртуальность»…
Тем не менее в опыте писателя внутренняя жизнь становится фактором культуры, другими словами, рост личности признается не только способом существования в чуждой среде, но и способом противостояния, борьбы с ней («Останусь ли я для потомства обычным русским чудаком, каким-то веселым отшельником, или это до смешного малое дело выведет мысль мою на широкий путь, и я останусь пионером-предтечей нового пути постижения «мира в себе»). В эту борьбу по необходимости входит юродство («нужна личина для дураков»), которое из религиозной сферы переходит в светскую жизнь («Жизнь писателя ничем не отличается от жизни подвижника, те же бесы вокруг от «гордых сверхчеловеков»… до маленьких… пьяно-богемных… Но у подвижников религии есть сложная система борьбы с бесами, а писатель среди них как ребенок»).
Так или иначе, но творчество остается для Пришвина единственным способом осуществления жизни («вернуть творчество бытию»), причем связь творчества и свободы осмысляется им не как связь власти и литературы, а как универсальная проблема («Говорят, что монах, устраняя себя от жизненных обязанностей, выбирает сравнительно более легкий путь. Но так можно сказать о всяком, кто забрал себе в голову мысль о личном самоопределении («свободе»). Путь свободы усеян жертвами»).
В связи с образом жертвы возникает в дневнике центральная личность языческого мира — Прометей. Пришвин не закрывает глаза на страдание, страдание — сердцевина мира, и от него не уйти, но творческая победа личности — единственное, что покрывает страдание и создает новую реальность («огонь меня греет, и мне хорошо, как же мне не радоваться и не славить победу… если, угретый, сам начинаю творить», «Пусть висит на скале Прометей, нам-то что, если мы сами висим, пусть нет победителей, но победа… ее только тот не поймет, кто не страдал»). Экзистенциальное понимание добра и зла, переключающее внимание с этической оценки события на творческую, остается для Пришвина единственно приемлемым. В ситуации, когда добро и зло теряют связь с архетипами, то есть истощается не только их этический, но и мистический смысл («Непостоянство добра и зла — это характерная особенность нашего времени. Добру не верится, нет подъема рассердиться на зло… Нет Бога в этом добре, нет дьявола в этом зле, потому что с именем Бога и дьявола соединяется идея вечности… В Советской власти нет вечности»), писатель актуализирует оппозицию добра и красоты — религии и искусства, которые находятся в сложном взаимодействии, и признает абсолютную недостаточность добра — этической модели творческого поведения («Мрачной представляется мне жизнь в одном добре, не стоило бы жить, если бы еще возле добра не было бы на земле красоты»). Однако, выбирая путь красоты, он не становится художником-эстетом — и то и другое пережито в культуре, он продолжает поиск места художника в современном мире и находит его там, куда «все люди идут, не помня зла и добра», — это не ницшеанский мир «по ту сторону добра и зла», это мир, в который ведет красота, преодолевая на пути человеческое — и добро и зло («Поэтическое и религиозное творчество создает лицо жизни»). Пришвин движется окольным путем, как и в прошлые годы, перетягивая красоту на сторону природы («выбираю себе красоту в самой скромной должности хранителя ризы земли»), соединяя природу, искусство и религию по единственному общему признаку — творчества жизни. В эти годы Пришвин много размышляет еще об одной сфере деятельности человека — о науке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: