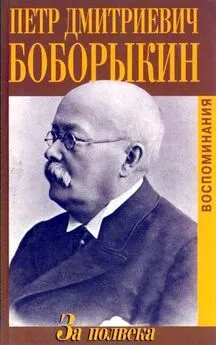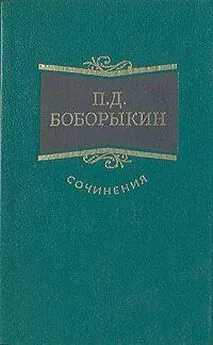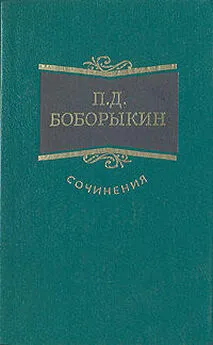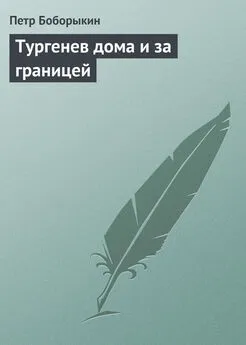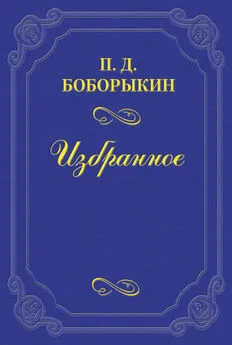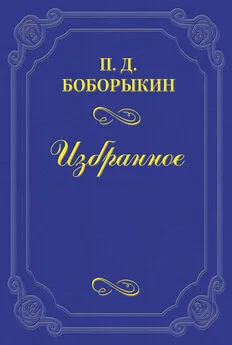Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания
- Название:За полвека. Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Захаров
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-8159-0293-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Боборыкин - За полвека. Воспоминания краткое содержание
Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921) — бытописатель, драматург, литературный критик, публицист, мемуарист, автор популярнейших романов «Дельцы», «Китай-город», «Василий Теркин» и многих других, отдавший литературной деятельности более шестидесяти лет. Книгу писатель задумал как итоговый мемуарный труд — документальную историю жизни русской интеллигенции, с ее заслугами и слабостями, бескорыстными поисками истины. Жизнь общества в данный момент, костюмы, характер разговоров, перемены моды, житейские вкусы, обстановка, обычаи, развлечения и повадки… изображены им с занимательной точностью и подробностями. О размахе предпринятого им труда можно судить по объему сохранившихся первых девяти глав этой мемуарной эпопеи, охватывающих меньшую часть намеченного им полувека.
Все включенные в эту книгу тексты Боборыкина печатаются без сокращений по изданию: П. Д. Боборыкин. Воспоминания в двух томах. М., «Художественная литература», 1965.
За полвека. Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По той же программе проделал свой первый вечер в Париже и Александр II. Ему заказана была ложа в театре Varietes, а после спектакля он ужинал с Шнейдер. Париж много острил тогда на эту тему. А самую артистку цинически прозвали «бульваром государей», как назывался пассаж, до сих пор носящий это имя, на Итальянском бульваре. Позднее от старого писателя Альфонса Руайе (когда-то директора Большой Оперы) слышал пересказ его разговора с Шнейдер о знакомстве с Александром II и ужине. По ее уверению, ей, должно быть, забыли доставить тот ценный подарок, который ей назначался за этот ужин.
Национальная самовлюбленность французов достигла тогда «белого каления». Даже эмиграция, в лице «поэта-солнца» — Виктора Гюго, воспела величие Парижа. В его статье (за которую ему заплатил десять тысяч франков издатель выставочного «Путеводителя») Париж назван был ни больше ни меньше как «город-свет» — «ville-lumiere».
Для нас, более спокойных и объективных наблюдателей, Париж совсем не поднял своего мирового значения тем, что можно было видеть на выставке. Но он сделался тогда еще популярнее, еще большую массу иностранцев и провинциалов стал привлекать. И это шло все crescendo с каждой новой выставкой. И ничто — ни война, ни Коммуна, ни политическое обессиление Франции — не помешало этой «тяге» к Парижу и провинций, и остальной Европы с Америкой.
Но на первых же порах съезд венценосцев был смущен выстрелом поляка Березовского в русского императора.
Не скажу, чтобы у нас в «Латинской стране» это произвело особенно сильное впечатление. Тогдашние радикалы и даже либералы-бонапартисты Парижа недолюбливали русских и русское правительство. Это осталось еще после Крымской кампании, а польское восстание и муравьевские репрессии усиливали эти неприязненные настроения. Гораздо больше оживленных толков вызвала у нас сцена во Дворце юстиции, где молодой адвокат Флоке (впоследствии министр) перед группой своих товарищей выдвинулся вперед и громко воскликнул, обращаясь к русскому царю:
— Да здравствует Польша, сударь!
Эта маленькая фраза содержала в себе два главных мотива настроений тогдашней радикальной молодежи: демократизм в республиканском духе (Monsieur!) и сочувствие раздавленной Польше.
Каких-нибудь проявлений патриотизма (по поводу покушения Березовского) среди тех русских, с какими я тогда сталкивался, что-то тоже я не помню.
Всякого сорта соотечественников встречал я на Марсовом поле, у Корещенко и в других местах: компанию молодых чиновников министерства финансов и их старосту Григоровича, некоторых профессоров, художников и всего меньше литераторов.
Приехал от Аксакова москвич-техник для специального отчета о выставке (фамилии его не помню); но этот москвич, направленный ко мне, оказался совсем неподготовленным, если не по части техники, то по всему — что Франция и Париж, не умевший почти что «ни бельмеса» по-французски.
Кто был постоянным корреспондентом от «Санкт-Петербургских ведомостей», я не знал. Но если б встречал его, то наверно бы заметил. В «Голос» и «Московские ведомости» писал Щербань, давно живший в Париже и даже женатый на француженке. С ним мы познакомились несколько позднее.
Из наших литературных «тузов», перворазрядных беллетристов или редакторов журналов и газет, я никого что-то не встречал в первые месяцы выставки — ни Тургенева, ни Достоевского, ни Гончарова, ни Салтыкова. С редакторами — Краевским, Коршем, Благосветловым — встречи произошли позднее. У Корша я стал писать как постоянный сотрудник с следующего сезона 68-го года, когда я перебрался на другой берег Сены и поселился поблизости от Бульваров, в Rue Lepeletier, наискосок старой (сгоревшей) Оперы. Поэтому моим двухнедельным фельетонам (сверх политических писем) я и дал общую рубрику: «С Итальянского бульвара».
На мое писательство, в тесном смысле, пестрая жизнь корреспондента, разумеется, не могла действовать благоприятно. Зато она расширила круг всякого рода наблюдений. И знакомство с русскими дополняло многое, что в Петербурге (особенно во время моих издательских мытарств) я не имел случая видеть и наблюдать. Не скажу, чтобы соотечественники, даже из «интеллигенции», особенно чем-нибудь выдавались, но для беллетриста-бытописателя — по пословице — «всякое лыко в строку».
Курьезные типы попадались и среди художников, и среди чиновников и посольских, и среди молодых полуобразованных купчиков. У Вырубова между чиновниками министерства финансов оказался товарищ по лицею Н-ин, добрейший малый, получивший потом в Петербурге известность своей благотворительной и просветительной деятельностью. Тогда же, в Париже, впервые встретил я у Вырубова (он у него и гостил) Е. В. де Роберти, еще очень молодого и франтоватого, любившего и тогда «французить», убежденного позитивиста, очень решительного в своих оценках и философских идей, и политических учений, и книг, и людей. Из русских интеллигентов он все-таки выделялся.
На выставке познакомился я и с г. Онегиным, только что кончившим курс. Он тогда еще носил немецкую фамилию Отт, которую впоследствии переделал на имя героя пушкинского романа и превратился в библиофила-собирателя с собственным «музеем» в Париже. Его я встречал и впоследствии, в Петербурге, где он долго жил домашним наставником в одном богатом доме до окончательного переселения в Париж. Сносился с ним я и в дни болезни Тургенева (в лето его кончины), когда г. Онегин находился почти бессменно при умирающем в Буживале и надо было обращаться к нему.
Весь этот русский образованный люд ничто тогда не объединяло, кроме разве благодушества в трактире и чайной Корещенко. Исключения не составляли и ученые по разным специальностям.
Простой народ был характернее: сначала плотники, строившие русскую избу, потом половые, артельщики, мастеровые нашего отдела и весь хор кавалергардского полка, приехавший на всемирное состязание полковых оркестров, где рекорд побили немцы и, главное, австрийцы.
Плотников я посещал не раз во время самой стройки, еще до открытия выставки (1 апреля). И около избы у меня вышел забавный разговор с четой французов, пришедших также поглазеть на этих «moujiks». Эта чета оказалась: комик Лемениль и его жена, оба бывшие артисты труппы Михайловского театра. Я сейчас же узнал их и воспользовался случаем высказать мое уважение таланту и мужа и жены — превосходной комической «старухи».
— Разве вы не можете сказать мне несколько слов по-русски? — спросил я.
— О, боже мой! — откликнулась первая жена. — Мой муж шестнадцать лет прожил в Петербурге и, вот видите, ничему не научился.
— Это правда, — подтвердил комик с веселой усмешкой. — Но я еще мог сказать извозчику: «Pajalst (пожалуйста) Gastinai Dvor, dvatsat kopeks!» A madame Лемениль и того не может.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: